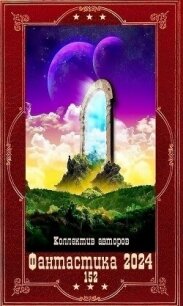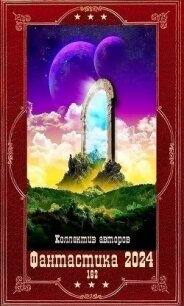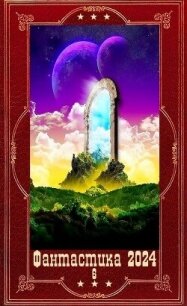Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT, FB2) 📗
Ее путевые очерки читаются лучше, чем я ожидал: это живая, восприимчивая проза, насыщенная картинами. Гравюры на дереве очень хороши, на уровне лучших ее вещей. Из-за наших ножниц часть текста и иллюстраций пропала, но и по остальному отчетливо ощущается, с каким волнением она работала.
Я помню, или мне так кажется, волнение, которым наполнилась она вся – лицо, склоненная фигура, изящные старческие ладони, – когда мы возвращали из небытия эти ее рисунки сорокалетней давности. Она щебетала, объясняя мне то и это. Самим разговором она возбуждала себя, она вспоминала испанские слова, забытые десятилетия назад, она смеялась заливистым смехом, который обычно берегла для старых друзей – для тех, с кем ей было легко. Она слишком себя взвинтила – недалеко было до истерики, до душевной и физической боли. Началось с неудержимого смеха, а кончилось слезами.
Ее Париж и ее Рим, лучшее время ее жизни, упущенная возможность, о которой она, похоже, сожалела сильней, чем о всех прочих упущенных возможностях. В том, что она намного выше Огасты как художница, она никогда себе не признавалась и, услышав такое, возражала бы яростно, всю жизнь поддерживая иллюзию, будто ее подруга – носительница высшей Гениальности; но возможности, которыми располагала Огаста, чтобы путешествовать и набираться впечатлений, бабушке, конечно, пошли бы на пользу, и она не могла им слегка не завидовать. Вполне вероятно, в ней таилось ощущение, которое она подавляла как Недостойное, что, выйдя за Оливера Уорда, она погубила свой шанс быть чем‑то большим, нежели коммерческий иллюстратор, которым она себя выставляла. Это чувство, должно быть, росло с ростом ощущаемых ею собственных сил.
Эмансипация женщин пришла позднее, и сама бабушка была эмансипирована только частично. Женщин, способных подать ей пример литературной карьеры, было немало, но почти никто, кроме разве Мэри Кассат [110], с которой она, судя по всему, никогда не встречалась, не мог послужить для нее образцом художницы. Побуждение и дар были налицо, но не хватало воодушевляющих примеров и благоприятных возможностей. Признанная лишь наполовину, в бабушке жила этакая Изабел Арчер [111] – свежая, независимая, предприимчивая душа, лишенная пуританства вопреки культу утонченности. Под слоями квакерской скромности и снобистских условностей виднеется амбициозный женский характер. Легкая ножка годилась не только для танцев, ясные глаза – не только для кокетства, женственность – не только для немого подчинения мужу и домашнему очагу.
Ей никогда не приходило в голову бунтовать против условностей времени и места, и поэтому, думаю, они никогда ее не сковывали. Не были ей знакомы и наказания, которым подвержена утонченная женщина: неврастения, нервные срывы. Но устремления свои, дававшие ей цель, и дарования, помогавшие наполнить неудовлетворительную в других отношениях жизнь, она никогда вполне не осознавала и не развила до конца. То, что она ни разу не покидала Североамериканский континент и большую часть жизни провела в дальних его углах, было препятствием, которое она поневоле ощущала. Однажды она отказалась от заказа на иллюстрации к роману Ф. Мэриона Кроуфорда, потому что, по ее словам, не знала даже, на каких стульях сидят в роскошных европейских домах и палаццо, где происходит действие книги. Все, что рисовала, она могла наполнить своим особым чувством, но рисовать могла только то, что видела.
Да, Мексика и правда была ее Парижем и Римом, ее большим европейским туром, ее единственным знакомством со старинными и экзотическими цивилизациями, к которым она, питая невинную и характерную для девятнадцатого века слабость к местному колориту, была неравнодушна. Наконец‑то она двигалась не от цивилизации, а к ней, и, благодаря желанию синдиката выставить презентабельный фасад, она плыла первым классом. В ее багаже были двадцать четыре выбеленные доски, второпях приготовленные в редакции “Сенчури”, а в ее складном саквояже лежала телеграмма из Женевы от Томаса, подтверждавшая заказ, вместе с которым она получила две дюжины длинностебельчатых роз.
На взгляд Сюзан, порты на островах, куда они ненадолго заходили, плывя к югу, были невыносимо живописны. Их покрывала патина романтических эпох, их крепости обороняли морские подходы к континенту, когда ее родина на Гудзоне еще ничего не изведала, кроме дикарских танцев. Она скупилась на сон, бодрствовала допоздна, чтобы смотреть на огни и слушать звуки, долетавшие с берега, чтобы видеть, как заходит за пальмы луна; она вставала до восхода солнца, чтобы глядеть на светлеющее благоуханное открытое море. Как молодожены, совершающие круиз в медовый месяц, они с Оливером танцевали, обедали, ужинали, пили шампанское за капитанским столом, прислушивались к любовным песням, которые пели по‑испански кубинцы в третьем классе, просидели однажды половину лунной ночи, слушая, как молодой шведский инженер, направлявшийся в Мексику на строительство железной дороги, фантастически декламировал в оригинале “Сагу о Фритьофе”.
Она увидела в нем сходство с собой и Оливером; ей понравилось, что он взял с собой в чужеродную культуру свою традицию. Особую свою восприимчивость к этим стихам она объяснила викингами у Лонгфелло и Бойесена, которых рисовала для Томаса, и, когда легла в ту ночь в постель, перебрала свой собственный несколько разрозненный культурный багаж и дала себе слово крепко за него держаться, чем бы ни соблазняла ее Мексика. Одной из милых черт Америки девятнадцатого века был ее культурный патриотизм – не джингоизм, просто патриотизм, ощущение, что сколь бы ни были хороши другие страны, сколь бы ни были они красочны, полны экзотики и утонченности, нет места такого же правильного в конечном счете, такого же морально доброкачественного, внушающего такие же надежды на будущее, как США.
После пяти дней плавания поднялись утром на палубу и увидели розовую от солнца снежную вершину, воспарившую на белой перине облака: Орисаба. Немного погодя пароход вошел в гавань Веракруса, и Мексика предстала перед Сюзан Уорд, словно явилась из лампы Аладдина, – ничего общего с фальшивыми фасадами, яловыми сапогами, болтающимися жилетками и тяжкими разочарованиями Ледвилла. Мексика была волшебной интерлюдией между главой, полной поражений, и неперевернутой страницей.
Мой дедушка, для которого защита дам всегда была на первом месте, сговорился со шведским инженером, чтобы занять для приличных пассажиров все места в вагоне первого класса до Мехико, но в дилижансе из Мехико в Морелию у него такой возможности не было. Четыре дня просидели втиснутые в старую конкордскую карету с шестью другими пассажирами; никто из них не говорил по‑английски, но все оказались учтивыми до мучительности. В своем первом очерке бабушка сухо замечает, что близость между едущими стремительно зрела благодаря тому, что их часто кидало друг на друга. Возница, предтеча всех нынешних мексиканских водителей автобусов, был из любителей ускоряться в городках, перед станциями, после станций, на поворотах, на крутых спусках и на ухабистых участках. Подле него на ящике сидел mozo [112] с кожаным мешочком, полным камней, и подбадривал, когда надо, головных мулов. Спереди, сзади и с боков, защищая дилижанс от бандитов, ехали всадники из guardia civil [113] в серых мундирах, вооруженные карабинами и шпагами, и в промежутках между рывками, на которые они реагировали, как охотничьи собаки на вид и запах ружья, дремали в седлах, или разглядывали дам в дилижансе, или пели сами себе нескончаемые corridos, импровизированные песни – частью баллады, частью газетные сообщения, частью фантазии об исполнении желаний.
Если они разглядывали дам, то одна дама разглядывала их. Она видела все и многое из всего зарисовала; ее альбомами, если бы они сохранились, я бы дорожил. Я знаю только, что ими восхищался Томас Хадсон и что их хвалили Уинслоу Хомер и Джозеф Пеннел [114]. Даже тем двум дюжинам ксилографий, что родились из альбомов, присущи огромное разнообразие и живость: вот Толука, чей силуэт сохранился с шестнадцатого века, с ее колокольнями, плоскими крышами, черепичными куполами и кипарисами; вот индейские хижины, перед которыми женщины выложили на полотенцах, придавив их камнями, пульке [115], тортильи [116] и фрукты для подкрепления путников; вот вьючные мулы и ослики, похожие на тех, что она рисовала в Нью-Альмадене; вот повозки со сплошными деревянными колесами, запряженные волами; вот индейцы в сандалиях, гнущиеся под стофунтовыми мешками с camotes [117], или под башнями из глиняной посуды в веревочной обвязке, или под тюками циновок; вот стада черных свиней, их гонят свинопасы в накидках из сухих кукурузных листьев, по виду и шелесту – прямо‑таки ходячие кукурузные снопы. Шатко бредя темным вечером в одну из гостиниц с их голыми комнатами, она каким‑то образом сумела задержаться и набросать аркады и дворики. Поднявшись в три, стояла в полной темноте в арочной галерее на втором этаже, дожидаясь, чтобы внизу начали выводить и запрягать мулов при свете факелов из сизалевого каната, обмокнутого в смолу.