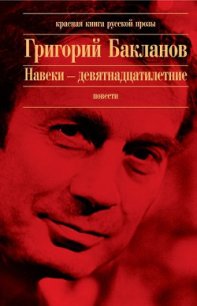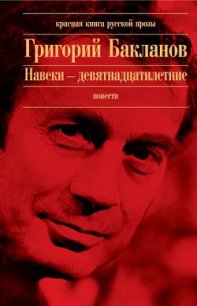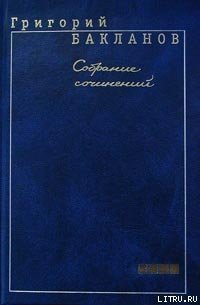Был месяц май (сборник) - Бакланов Григорий Яковлевич (читаем книги онлайн TXT) 📗
Когда сыновья собрались уезжать, защемила в душе малая надежда, что оставят им дом, доживать старость. Но старший сын забрал трех дочерей, оставил им внука неразумного и твердо указал пальцем, где расписаться. Аля, мать, и этому нашла оправдание: «Им там, в чужих краях, жизнь начинать заново…»
Он простил сыновей, не стало Али, и он простил их, она этого хотела. За свою вину перед ней простил. Только не окажутся ли они и там чужими? Пусто в душе, и не мог написать им, что нет матери, рука не налегала.
Разогревшийся в работе, он почувствовал: зябнет спина. Холод шел от земли: осень, земля теперь только днем прогревалась, чтобы за ночь остыть еще сильней.
Он пособрал с земли опавшие яблоки, отнес внуку и, не торопясь, чтобы больше успеть, начал выкорчевывать вторую яблоню. Яма была уже по колено, белели в стенах ее обрубленные топором толстые корни, уже и ствол можно было раскачать, но мощный корень, к которому не подлезть, держал ее из глубины.
Старик принес плаху, на которой рубил дрова, принес длинную двухдюймовую трубу: рычагом вывернуть. Он загнал конец трубы под корневище, на другой, на длинный конец, налег. Качался ствол при каждом толчке, качался, но сидел прочно.
Шоферюгу бы сюда, бугая этого здорового, зубоскалого, вдвоем вывернули бы легко.
Весь мокрый от пота, старик круче вогнал трубу, еще полешко подложил, свободный конец торчал в небо. И приналег на него, приналег, давил всей силой. Шумело в ушах, глаза лезли из орбит, обрубленный ствол кренился, вот-вот ляжет, кого-нибудь бы сюда… корень обнажился… подрубить топором… И хрустнуло. Хрустнуло, оборвалось что-то в груди. Слабый, сполз он на землю, к дому шел, прижимая грудь рукой, как живую рану нес. Порожки крыльца слепо нащупывал подошвой. Лег. Лежал, прислушиваясь к себе.
Под вечер полегчало. Боли не было, только пустота и страх. И в пустоте этой осторожно билось сердце. Заканчивать яму все же не решился, оставил до утра.
Зато ужин внуку соорудил праздничный: пожарил на сале яичницу с колбасой, достал припрятанную для него бутылку кока-колы. И невдомек внуку, отчего дед сегодня такой с ним ласковый, сам не ест, на него смотрит, нет-нет и погладит по спине:
— Ничего… Ничего… Как-нибудь. Дед твой еще ого-го!..
И темное, все в морщинах, старое лицо его светлело, только черные глаза оставались такими же строгими.
Было уже не рано, когда сквозь первый, самый крепкий сон старик услышал:
— Отец, а отец!
И опять позвали. Босиком, неохотно подошел он к окну. Так и есть, сосед, навалившись на штакетник, положа поверх голые по локоть руки, звал его.
— Кондратий!
Под фонарем было видно: морозный пар изо рта, а сам расстегнут до пряжки, живот наружу, жарко ему.
— Кон-дра-ти-ий! — дурашливым голосом.
Не даст спать. Старик, как был во всем белом, толкнул дверь в сени и оступился в темноту. Удержавшись за косяк, по стенке, по стенке добрался до топчана. Сидел задыхающийся, ловил воздух пересохшим ртом. Это не нога оступилась, там и порожка нет, сердце оборвалось. Глухой от прихлынувшей к ушам горячей крови, враз ослабевший, он осторожно лег, укрылся. В тепле дрожь внутренняя била его.
— Ничего, ничего… — бодрил он себя.
В госпитале, в палате у них был раненый, от которого и врачи уже отказались. А он жил. Одной силой воли жил. Умер во сне.
Легко, должно быть, это — во сне. Смерть наяву страшна.
Старик лежал, стерег утихавшую боль. И среди многого, что передумал он и вспомнил в эту ночь, не давая себе уснуть, вспомнился и тот старик-болгарин, которого они обидели. Наверное, он уже умер. Это на их тогдашние глаза — старик, а был он моложе его теперешнего. И все само собой вышло, человек не знает, что в нем сидит.
Отара паслась на склоне, они увидели отару, а он увидел их. В бараньей расшитой безрукавке, седой, с длинной крюковатой палкой в руке, он сам позвал их: «Братушки, братушки!..» И подросток, который был с ним, кричал: «Братушки!..» Вчетвером, сидя на разостланной шкуре, они пили светлое вино, закусывали овечьим сыром. И чем больше пили, тем лучше понимали друг друга. Но мысль свою держали про себя: старшина послал их добыть овечку. И что бы им стоило сказать это болгарам? Но нет, они вдруг вскочили и, с автоматами за спинами, распугав отару, выхватили овцу, кинули ее в бричку и, не оглядываясь, погнали коней, нахлестывая вожжами.
В лесу зарезали, ободрали, подвесив за ноги к дереву; шкура с овцы снимается легко. И все вместе — шкуру, требуху, маленькую черную овечью голову, которая только что щипала траву, — бросили, даже не присыпав землей. И весело рассказывали, вернувшись, казались себе удалыми. Стыд пришел много поздней.
В синих сумерках, в меркнущем свете месяца наклонился над ним внук. Внук говорил с ним, лицо его было разумно, старик слышал его голос и слова из далекого, забытого детства:
Сладкой тоской сдавило горло, старик потянулся весь, и уже не стон, а хрип шел из горла. И тогда внук шершавым языком стал лизать его лицо, виски, щеки. Тычась мокрым, холодным носом под рубашку, лизал грудь. И сердце, остановившееся было, дрогнуло, забилось.
Сквозь туман, объявший сознание, издалека проступало вытянутое, не похожее на себя лицо внука. Упершись лапами, собака дышала над ним. Ждала. Она смотрела в глаза ему умными человечьими глазами.
В месте светлом, в месте злачном, в месте покойном
— Так… Начали… Мотор!
Хлопнула хлопушка.
— Дубль два!
И грянул марш. В ногу, в ногу, отбивая шаг, двинулся строй, вздымая известковую пыль. Встречно по рельсам покатили рабочие тележку с камерой и пригнувшимся к ней оператором.
— Песню! Песню! — забегая сбоку, но так, чтоб не попасть в камеру, надрывался, молил, грозил ассистент.
И не грубый от зноя и ветров отрывистый голос запевалы, а сладкий эстрадный тенор из военного ансамбля вознесся, как жаворонок в синеву:
Строй надвигался. Ремни, портупеи, погоны, фуражки с белыми кокардами, лица, лица…
— Лица-а! — застонал режиссер и сел на камень, зажав голову руками. Рядом с ним на парусиновом стуле остался брошенный микрофон. — И это — русские офицеры?
Дворяне?
Сам режиссер был не породист, коротконог. При мощном сложении, крупной голове, крупных чертах лица он, когда сидел, производил впечатление рослого человека. И потому он сидел, а они перед ним стояли: ассистент и консультант.
— Где вы их понабрали таких? Это не дворяне, дворняжки. Их будут расстреливать, вам жалко? Мне — нет!
Откатили по рельсам тележку с оператором, массовка, изображавшая господ офицеров царской армии, курила, сойдясь, поворотившись спинами на ветер. Море было еще холодное, и от ветра, срывавшего белые гребешки волн, синели лица. Но набежавшие поглазеть на съемки мальчишки да томящиеся от безделья, тепло одетые отдыхающие из местного санатория, приехавшие не в сезон, по льготным путевкам, добровольно зябли на ветру, отгороженные белой веревкой, вдоль которой похаживали для порядка два милиционера с мегафонами.
Дело было, конечно, не в лицах: время уходило, и режиссер нервничал. А уж как выбирал он сценарий, чтобы не ошибиться, чтобы одним выстрелом и сразу — в десятку. И вроде бы ухватил главный нерв времени. Не случайно же сегодня достают старинные фотографии, которые десятилетиями прятали от властей, устраивают выставки, и люди смотрят со слезами умиления на глазах. Да и можно ли смотреть без слез? Сестры милосердия русской армии в Первую мировую войну, белые голубки, генералы с благородной строгостью во взоре. Какие лица! Даже у нижних чинов.
Исчезнувший генотип.
4
Тихая ночь, святая ночь… (нем.).