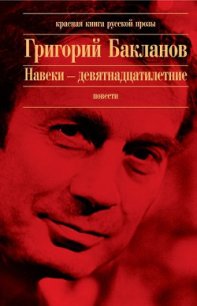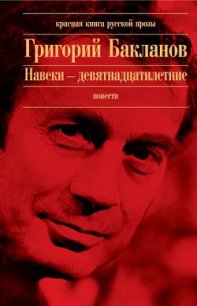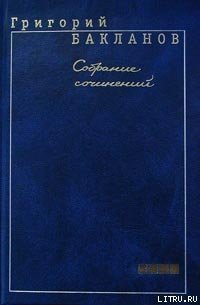Был месяц май (сборник) - Бакланов Григорий Яковлевич (читаем книги онлайн TXT) 📗
Из шкафчика над мойкой достал глубокую тарелку, она выскользнула из рук, разбилась об эмалированный чугунный край мойки.
Вот так же здесь три дня назад Аля упустила из рук большую треснутую чашку, из которой он всегда пил чай. И напугалась, чашка была его любимая: «Это — к счастью, отец». А он, посинев от гнева, закричал на нее, и она смотрела на него, не узнавая. За сыновей, за жизнь свою нескладную срывал он на ней сердце.
Он стал прижимист, экономил на всем, теперь уже не говорили ему: «Ты нам цену сбиваешь». Цену назначал он сам, и немалую. И однажды услышал: «Единственный был тут человек, и тот совесть потерял. Вот что время делает с людьми». Не время. Не мог он позволить, чтобы его жена доживала свой век у чужих людей. Ей он ничего не сказал, но присмотрел маленький домик на две комнатушки с террасой, ветхий, до конца жизни его обустраивать, участок шесть соток, и так рассчитал, что сможет его купить, одолеет. И работал, себя не жалея, боясь только, что силы раньше времени уйдут.
Налив в миску молока, накрошил туда хлеба и вышел к внуку на крыльцо кормить его с ложки. «Он у нас благоразумный», — защищая от чужих взглядов, говорила Аля и приглаживала ему вихры своими темными от старости руками, прихорашивала. «Как теперь жить будем?» — то ли себя, то ли внука мысленно спросил старик. Тряпицей он вытер ему рот, потом себе — глаза.
В день похорон, ближе к вечеру, пришли слесаря, те самые, что требовали: «Ставь бутылку!» Пришли трезвые, принесли все с собой, и водку, и закуску: помянуть Алевтину Степановну, горе его разделить. Он выпил граненый стакан, налили полный, до краев, и под их голоса, под успокоительное «Все там будем» почувствовал, как что-то мягчеет в душе. А они, быстро опьянев, пытались и внуку наливать.
Всю эту ночь он просидел. Сердце бухало под самым горлом, а то вдруг обрывалось, и не хватало воздуха. И слушал, как там, за дверью, поскуливает во сне, беспокойно ворочается внук, никому уже теперь, кроме него одного, в целом свете не нужный. Неужели чувствует что-то?
Свет уличного фонаря косо попадал в окно, и в белой рубашке сидел он в темноте, локтями опершись о колени. На темном, в морщинах, как в шрамах, лице серебрилась отросшая за эти дни щетина. А на дощатом затоптанном полу — на них тоже падал свет — искривленные босые его ступни с налезшими друг на друга пальцами. До самой Вены дошли эти ноги, и все — пешком, пешком. «Пехота, не пыли!» — бывало крикнет бравый штабник, обдав пылью, проносясь с ветерком в кузове полуторки.
Чем же была вся его долгая жизнь, если даже сыновьям ничего из нее не понадобилось? Жил, потаясь: то под стыдом, то под страхом. Но ради них же так жил большую часть своей жизни. Отец его был немец, мать — украинка, а он — русский… По паспорту. Когда отца посадили, мать схватила его, все бросив, увезла, затерялась в России. И он забыл язык, на котором говорил его отец, которому учил его с детства; отдельные слова без связи и смысла застряли в памяти.
Недавно хозяйка, Екатерина Аполлоновна, узнав, что он — не «Кондрат» и не «Кондратьевич», а «Конрад Конрадович», одарила его уважением спроста. А он, когда услышал «Конрад Конрадович», уже не страхом глубинным, а стыдом пронизало его: всю жизнь себя не за себя выдавал.
И за долгие годы много этого стыда накопилось. Никому, даже Але, не рассказывал он, как, себя спасая, отдал на погибель того мальчишку-немца. Они ворвались в немецкие окопы, и обоих положило разрывом снаряда. Он очнулся, рядом — немец, и первый напрыгнул на него, скрутил. Ему же и приказано было отвести его в тыл.
Шел перед ним под наставленным дулом автомата мальчишка, совсем, совсем молодой, рослый, красивый, держался бесстрашно. Осколком задело ему голову, кровь текла по щеке, по шее, за воротник мундира. И, пооглядывавшись, нет ли кого поблизости, протянул ему свой скомканный платок: «Nimm… bitte… gut… gut», — собирал он в спешке забытые слова. Хотелось расспросить его, столько вдруг стеснилось слов, но все — русские.
Вот тут наскочил на них сержант, будто за кустом поджидал:
— Чего ему говорил? Об чем разговаривали?
— Ни о чем. Платок вот дал, человек ведь.
Сержант глядел бешеными глазами. Два дня назад убило младшего его братишку.
Забрал к себе из другой роты, думал сберечь, убило на глазах. Сам он вырыл ему могилу и с тех пор дергался, как контуженый.
— Вертайся назад, я поведу его.
Он понял, опустил глаза:
— Мне приказано…
И вдруг, перекривляясь, передразнивая, сержант впился:
— А ты сам-то не из них ли? Ишь лопочут по-своему. Гляди-и.
Кровь бросилась к лицу, но только и сумел сказать:
— Больной, а не лечишься…
И отступился, отдал мальчишку. Осталось помнить всю жизнь, как тот оглянулся, уходя, все понял. И вот уже сыновья взрослые, сам — старик, а мальчишка-немец нет-нет да и явится во сне, все такой же молодой. И в ожидании, в немом страхе замирает душа, как там, в лесу, когда сержант уводил мальчишку, а он ждал выстрела, будто себе в спину.
— Бабушку помнишь? — иногда спрашивал он внука. С ним теперь разговаривал, как она, бывало. — Уж она жалела тебя, баба твоя, Аля! Эх, ты-и…
И однажды что-то затеплилось от его слов, во взгляде мутном проясняться стало.
Залопотал, залопотал радостно, весь потянулся с крыльца, неумело прихлопывая ладонями.
По улице шла огромная, хозяйке по пояс, рыжая собака с бульдожьей мордой, шла у ее ноги, а та, в кожаных брюках, в сапогах, в свитере, со сложенным поводком, будто с плеткой в руке, — наездница. И пострижена под мужчину. Заслышав возню, собака, не удостаивая вниманием, гавкнула лениво, и внук закатился счастливым смехом.
Каждый день в один и тот же час они проходили на прогулку в поля, и внук ждал.
Там, подняв с земли, дама кидала палку, собака устремлялась за ней и приносила в слюнявой пасти. Ребятишки сбегались смотреть.
А впервые старик увидел их зимой. Пообедав, он возвращался на работу в телогрейке, в растоптанных валенках, а навстречу по снежной улице — вот эта дама с непокрытой головой, с плеч ее колоколом, обширными складками свисала богатая пушистая шуба, легкая даже на взгляд, мех, как живой, радовался зимнему солнцу, переливался, блестел. И собаке рыжая шкура ее тоже была просторна, висела лишними складками. После узнал: сняли они здесь дачу, на половине участка будут строиться..
Всякий раз, когда проходили они мимо, Лайка с этой стороны забора мчалась облаивать их, дорожку в траве выбила: собака, а ревнует. Или беду предчувствовала?
Старик теперь старался никуда надолго не отлучаться, не оставлять внука. Но упросила вдова глуховатая, мол, печь у нее во времянке дымит, погляди да погляди.
И не выгоды ради, а видя, что не отвяжется, пошел. Приставил лестницу, пока взлезал на крышу, один порожек гнилой под ногой треснул. Трубу, конечно, завалило. Он соображал, как лучше достать оттуда кирпич, когда услышал яростный знакомый лай, крики и грубое басовитое гавканье. С крыши, из-за деревьев, ничего не было видно. Как скатился сверху, не помнил, лестница под ним подломилась, и, хромая, хромая, потрусил. Посреди улицы наездница бесстрашно хлестала Лайку по оскаленной морде, огромная рыжая собака, покусанная до крови, пряталась за хозяйку. Он не слышал, что кричали ему, в раскрытую калитку видел только: внук лежит на дорожке. И душа сама взмолилась: «Не отымай!..» Упал на колени, показалось — не дышит. Сидя на земле, прижал к себе, и внук заплакал, да так жалко, так безутешно. А рядом крутилась Лайка, запаленно дыша, в горле у нее еще порыкивало.
Был ясный день осени, один из последних ясных дней. Упадет без ветра желтый лист клена, и слышно, как, шурша, он укладывается на земле среди сухих опавших листьев.
С утра старик искупал внука в корыте, бельишко с него и с себя постирал в мыльной воде, прополоскал на улице под краном и вывесил на веревке. Постричь ножницами, как Аля умела, у него не получилось, и, найдя машинку, которой еще сыновей стриг, остриг внука наголо. Старая машинка щипала до крови, внук вскрикивал, он дул ему на голову, остужая боль.