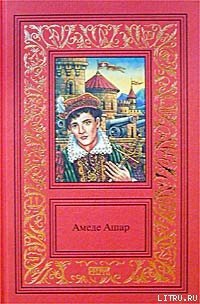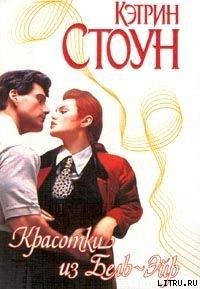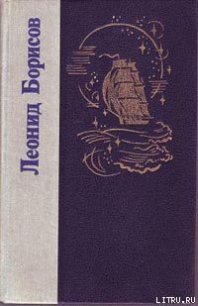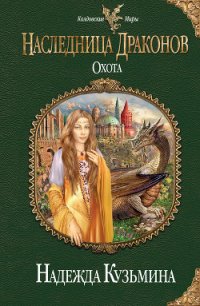Под флагом ''Катрионы'' - Борисов Леонид Ильич (книги онлайн .TXT) 📗
– Третье, – ответила Изабелла. – Третье декабря.
– Третье декабря… – повторил Стивенсон. – В Эдинбурге снег… На море шторм… Смотрителям маяков работа… Позови, пожалуйста, Ллойда. Впрочем, не надо. Кажется, мы так и не закончим нашего романа…
– Не будем торопиться, – неуверенно произнесла Изабелла. – Времени достаточно.
Стивенсон усмехнулся.
– Времени всегда много, – сказал он. – Жизнь коротка, но в ней очень много дней, часов, минут… Когда подходишь к двери небытия, яснее видишь, мой друг, сколько времени ты потерял напрасно. А его было так много!.. Посмотри на меня, не уходи.
Изабелла посмотрела в глаза отчиму, улыбнулась и под благовидным предлогом вышла из кабинета.
Так проходил последний день Тузиталы.
В семь вечера он сам, без посторонней помощи, пришел в столовую и сел на стул. Беседа началась незамедлительно – говорили о последних новостях в Европе, о Парижском салоне, о выставке Родена, о том, что через два года исполняется сто лет со дня смерти Роберта Бёрнса. Стивенсон просил напомнить ему о статье, которую он непременно напишет по поводу предстоящей даты. «А то, возможно, они там забудут», – сказал он, вкладывая в слова «они там» насмешливо-иронический оттенок.
– А завтра утром я намерен отправиться в гости, – заявил он и протянул руку к ящичку с папиросами. Фенни покачала головой, глядя на мужа, прикуривающего от уже выкуренной, но еще тлеющей папиросы. – Давно не был у коменданта порта, – сказал он, глубоко и шумно затягиваясь дымом. – Давно не был у мистера Моорза. Не сыграть ли нам в карты? – обратился он к Ллойду.
Стали играть в карты. Стивенсон выигрывал. В восемь, когда стенные часы гулко, по-башенному, начали бить, Стивенсон вдруг порывисто поднялся со стула, качнулся, ладонью потер лоб и, пятясь, дошел до кресла своих предков. Часы пробили последний, восьмой раз. Стивенсон опустился в кресло и сию же секунду сполз на пол. Миссис Стивенсон склонилась над ним с вопросом:
– Что с тобой, Лу?
Сын не ответил. Ллойд выбежал из дому, оседлал Бальфура и поскакал за врачом. Но и без него Фенни и Изабелла омраченно, с томящей болью и ужасом установили, что их Луи мертв. Прибывшему вскоре врачу оставалось только официально засвидетельствовать смерть Стивенсона, последовавшую, по его мнению, от кровоизлияния в мозг.
Остановилось сердце Тузиталы.
Слуги в Вайлиме онемели от горя. Матаафа (ему немедленно дали знать) опустился на колени перед койкой, на которой лежал его друг и защитник, и плакал вместе с матерью и женой Тузиталы. Большая толпа на площади перед домом всю ночь шумела, переговаривалась и боялась произносить имя покойного, который теперь уже совещается с душами всех хороших людей и ждет, когда ему дадут другое, новое имя: старое, земное он уже забыл, а потому нельзя живым и вспоминать его до тех пор, пока тело Друга и Брата не опустят в землю.
Его накрыли знаменами самоанских вождей, и каждый, кто приходил попрощаться с ним, как только поднялось солнце, концами пальцев касался головы усопшего, а затем подносил их к своим глазам и мысленно произносил свое имя, чтобы усопший простил его, продолжающего жить.
– Горе, горе! – восклицал Матаафа и не отводил взгляда от дорогого, неподвижного лица Друга и Брата.
Пришли консулы со своими семьями, матросы с крейсеров, служащие порта, миссионеры, купцы, хозяин гостиницы и случайные постояльцы. Хэри Моорз шепотом спросил Ллойда о похоронах.
– Матаафа сказал: он наш, – ответил Ллойд. – Матаафа сказал: он жил для нас, а теперь он навсегда с нами. Похоронами распоряжается Сосима.
Ллойд судорожно передернул плечами, закрыл руками лицо. Хэри Моорз обнял его и, желая отвлечь от тяжелых переживаний и мыслей, заговорил о насущно необходимом, обычном, земном:
– Надо дать телеграммы, дорогой сэр. Я это сделаю сейчас же, дайте только адреса.
И спустя несколько минут заторопился на телеграф. Вечерние газеты в Лондоне, Эдинбурге, Глазго, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Париже сообщили о смерти Стивенсона. Его друзья – Бакстер, Кольвин, Роден, Хэнли, Марсель Швоб, Киплинг, Марк Твен – надели траурные нарукавные повязки. На всех судах английского флота были приспущены флаги.
А здесь, на острове, сотни самоанцев острыми кирками, топорами и ломами высекали ступени на неприступной горе Веа, на вершину которой еще никто никогда не поднимался. К вечеру четвертого декабря было выбито восемьдесят ступенек шириной в три метра и высотой в десять сантиметров. На плоской вершине горы расчистили площадку, вырыли глубокую могилу. Мастера-каменотесы отвалили у подножия Веа огромный кусок каменной породы, обтесали его в виде саркофага и на одной стороне выбили надпись:
и под нею библейские слова Руфи к Ноэмини:
«Куда ты пойдешь, туда и я пойду, где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду».
Справа и слева этой надписи добрые мастера-каменотесы выбили изображение цветка чертополоха – национальной эмблемы Шотландии – и мальвы. На той стороне саркофага, что должна быть обращена к океану, на английском языке выбили эпитафию, сочиненную (много черновиков было потрачено на сочинение эпитафии) самим Стивенсоном:
В полдень пятого декабря гроб с телом Тузиталы опустили в могилу. Орудия на борту английского крейсера ударили двенадцать раз. Когда могилу стали засыпать землей, ударили орудия на борту немецкого и американского крейсеров. Ружейная трескотня на острове не умолкала до конца похорон. Матаафа произнес короткую речь; в конце ее он сказал:
– Мы осиротели. Тузитала ушел от нас. Мы должны беречь его вечный сон. Мы запрещаем охоту в лесу на всем пространстве от Вайлимы до Веа, чтобы птицы могли спокойно жить и петь свои песни, которые любил наш Друг и Брат – Тузитала. Отправимся домой и предадимся скорби…
– Мне страшно возвращаться к себе, – сказала Фенни сыну, опираясь на его руку. – Пусто, Ллойд… Только сейчас я почувствовала, как сильно любила моего Луи. На что мне теперь дом, сад, богатство?..
– Я начну писать о жизни моего дорогого Льюиса, – пробормотал Ллойд, поражаясь тому, как странно звучит теперь такое обычное «мой дорогой Льюис»…
– Я уеду отсюда, – коротко произнесла миссис Стивенсон. – Я как под водой, ничего не вижу, ничего не слышу.
До глубокой ночи молчаливые, ушедшие в себя слуги приносили телеграммы Фенни и миссис Стивенсон. Выражения своего соболезнования прислали все друзья и хорошие знакомые покойного, редакции всех европейских журналов и газет, издательств и частные лица – читатели Роберта Льюиса Стивенсона.
«Плачу вместе с вами» – такова была телеграмма от Хэнли.
– Вот еще один добрый, хороший, свой человек, – сказала миссис Стивенсон, плача над телеграммой и без конца перечитывая ее немногословный текст. – С Хэнли мне будет хорошо в Эдинбурге…
Ллойд изумленно посмотрел на исхудавшую, состарившуюся на десять лет за эти дни мать своего отчима.
– В Эдинбург? – вопросительно проговорил он. – К себе в Эдинбург? Вы хотите сказать, что…
– Я уже сказала, – печально отозвалась миссис Стивенсон. – Здесь мне не жить; здесь самый воздух отравлен для меня; здесь, куда ни ступи, всюду мой сын.
– Вы не покинете нас, – сказал Ллойд твердо и строго.
– Орел улетел из гнезда, – ответила миссис Стивенсон и поднесла к глазам очень маленький кружевной платок. – Здесь всё для меня пусто. Здесь всё напоминает моего Лу. Поеду в Эдинбург к сестре…
В Вайлиме стало пусто для всех. Сосима и Семели ежедневно по утрам прибирали кабинет Тузиталы, ставили цветы в вазы, взбивали подушки на койке, следили за тем, чтобы всё было так, как при жизни их друга. Приходил Матаафа. Он садился на ступеньку входа на террасу и молча глядел на пустынную площадку перед домом. Проходил час, Матаафу приглашали к столу, но он с печальной улыбкой отказывался и медленно брел к себе домой Дорогой Любящего Сердца.