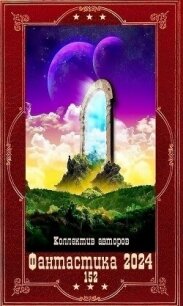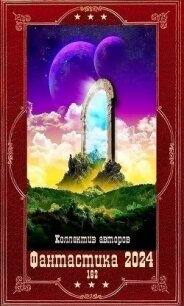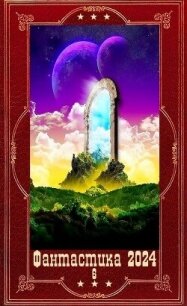Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT, FB2) 📗
Шелли смотрела на меня, подняв большие серые глаза и посасывая костяшку большого пальца; хлюпнув, вытащила ее и сказала:
– Я думала, она перестанет решения принимать, которые портят ему карьеру.
– Она, в общем, перестала. Но в трудном положении не смогла с собой совладать.
– Он ей позволял водить себя на поводке. Он что, мягкотелый был?
– Он не очень‑то умел убеждать да уламывать, – сказал я. – Он любил жену и ребенка. Ему только что – для викторианца – досталась исключительная порция любви. Это непростое было решение. Могло повернуться и так, и эдак.
– Да, похоже, – сказала Шелли. – Эту ее озабоченность домом я тоже не понимаю. Она не только фанатка культуры была, еще и собственница жуткая. Чем плохо было бы ездить с ним? Когда мы с Ларри гоняли автостопом, мне было здорово. Цыганская такая жизнь бродячая. Я знаю одну пару, они от Сингапура до Лондона автостопом. Я бы тоже не прочь. Не перевариваю этих домоседов.
– Времена меняются, – сказал я не без иронии. – Если так замечательно было разъезжать, почему вы с мужем перестали?
Вновь костяшка во рту. Хлюп. Быстрый взгляд искоса.
– Да не муж он, конечно. Это так, для родителей только.
– Хорошо, – сказал я. – Человек, с которым вы разъезжали. Почему перестали‑то?
Она вскинула руки в воздух, выгнула спину, грудь выпятила. Опять ohne Büstenhalter.
– Ха! – сказала она. – Поднадоело в дождь ночевать в туалетах канадских кемпингов. Но я бы опять отправилась. Такой свободы нигде нет. – Она встала и охлопала брюки сзади, как будто сидела не на полу, а на пыльной обочине. – Ладно, насчет сексуальной сцены беру свои слова назад. Даже если бы вы показали все как есть, она высшей точкой всему вряд ли стала бы.
– А так вообще бывает? – спросил я. – Нет, это было событие в общем ряду.
Бабушка хотела, чтобы ее сын, как она, рос в любимом месте, которое он знал бы до последней кротовой норки. Сельский пикчуреск был не только ее художественной манерой, но и пламенным убеждением. Она была вскормлена поэтами-романтиками и художниками Гудзонской школы, и то, чему ее пока что научил Запад, было продолжением тех и других: за Брайантом – Хоакин Миллер, за Томасом Коулом – величественные дикие просторы и горные вершины Бирстадта [102]. Западу как ландшафту она никогда не противилась – только Западу как бесприютности и социальной неотесанности. А с этим можно было попытаться сладить.
Она была мастерица вить гнезда. Когда она порхала то с веточкой, то с веревочкой в клюве, ей лучше было не мешать. В сентябре они начали возводить пристройку – кухня и спальня; огромный каменный камин, который им клали, годился, пожалуй, скорее для вечеров с гостями, чем для повседневности. “А жару‑то в дому маловато выйдет”, – проворчал со своим ирландским выговором печник, чем немало ее позабавил.
Занавески, отделявшие спальный угол, который Конрад Прагер окрестил “вторым этажом”, были сняты, и эту часть комнаты назвали “уголком Прайси”. Там поставили книжную этажерку, качалку и столик со стереоскопом и двумя сотнями видов Запада – подарок от Томаса Дональдсона в благодарность за гостеприимство. Картинки – или большая их часть – сохранились, они у меня здесь, парные коричневые фотографии на жестком картоне со скошенным и золоченым обрезом, чуть вогнутые навстречу друг другу, словно страдающие легким косоглазием: ранний Запад, ухваченный линзами О’Салливана, Хиллерса, Сэвиджа, Хейнза, Джексона. Слегка потускневшие, пятнистые, они все же, когда я смотрю на них в двойной окуляр стереоскопа, передают толику волнения и чуда новых краев. Вместе с ними в коробке – увесистый отчет Дональдсона об общественных землях, труд, заказанный Конгрессом и, как предсказал Кинг, оставленный им без внимания, но подлинная веха для нации, для ее понимания самой себя, вклад в копилку бескорыстных знаний, какой хотел бы внести мой дедушка. И это почти все, что осталось от ледвиллских лет.
В начале ноября типичная ледвиллская коляска, битком набитая седоками, поглядывавшими на свинцовое небо, которое пылило на них снегом, отправилась через перевал в сопровождении полудюжины верховых. Всадники были из хороших семей, выпускники лучших технических учебных заведений, молодые люди из тех двадцати семи, что недавно провожали в Ледвилле в последний путь генерала Винтона, сына пастора нью-йоркской церкви Троицы. В коляске сидели, кроме Сюзан и Оливера, его дальний родственник У. Ш. Уорд, старший брат Уорда по имени Ферд, прозванный Чародеем Уолл-стрит, и Улисс С. Грант-младший [103], человек, который для меня остался в истории лишь тем довольно ужасным эпизодом, когда его, двенадцатилетнего, отец посадил на пригорке, чтобы он смотрел на смертоубийство при Шайло.
Если бы Грант мог улавливать эффект Доплера, создаваемый ходом времени, ему было бы так же не по себе во время этой поездки с Фердом Уордом, как во время кровавой битвы. Им всем могло бы стать не по себе. Пройдет немного времени, и Ферд Уорд, финансовый советник генерала Гранта, погубит бывшего героя целиком и полностью, сорвет и выбросит последние остатки его достоинства и репутации. Кроме того, он как участник синдиката, владеющего рудником “Аделаида”, оставит зарубку на жизни моих бабушки и дедушки. Не тот человек, с кем безопасно водить знакомство. Но бабушка, невинная душа, была очень рада и польщена, что мистер Уорд едет с ними через перевал, а потом в одном поезде с ней до Чикаго. Он был живым доказательством их с Оливером продвижения наверх, воплощением тех кругов, в которые Оливер своими профессиональными качествами заслужил право войти. На этот раз, расставаясь с мужем на перроне, она оставит его в прочном положении, а сама отправится на Восток без привкуса неудачи во рту.
Во всех отношениях этот возврат в родные края отличался от первого. Хотя опять им предстояло провести зиму врозь – ни слёз, ни тяжелых мыслей. В Чикаго Ферд Уорд и мистер Грант взяли ее с собой на банкет в честь генерала Гранта, и она в завершение своего светского сезона пожала руку славному победителю и заглянула в его печальные, с красными прожилками, глаза. Познакомилась с генералом Шерманом и полудюжиной других генералов Теннессийской армии северян, и у нее был оживленный десятиминутный разговор с главным оратором – мистером Сэмюэлом Клеменсом [104]. Эти не столь важные детали несут в себе для меня, историка, некое подтверждающее очарование: они доказывают, что бабушка действительно жила во времени, среди людей.
Сквозь позднюю осень она вернулась в Милтон и после огорчения первого дня, когда сын ее не узнал, и нескольких дней распаковки, мытья, разговоров и подготовки почувствовала себя в состоянии приступить к зимней работе. Отвлекать ее было нечему – Огаста и Томас еще не вернулись из‑за границы. Доски для иллюстраций к Луизе Олкотт она окончила, других заказов у нее не было. Экспромтом начала писать роман о своем дедушке, квакерском пасторе, который своим аболиционизмом удручал всю милтонскую общину.
Писать книги о дедушках и бабушках – это у нас, похоже, семейное.
От родительского логова Ледвилл был так далек, что казался лишь наполовину реальным. Разматывая своего сына, после санок и горки румяного как яблоко, она с трудом могла поверить, что когда‑нибудь жила где‑то еще.
Она чувствовала, как мирное трудолюбие ее дней соответствует мирному трудолюбию всех дней, протекших над фермой на протяжении шести поколений. Прошлое даже не переходило здесь в настоящее, а было ему тождественно. Ей не надо было, как мне, включать машину времени, чтобы добраться до дедушек и бабушек. В своей жизни и в жизни ее деда, о котором она писала, ей виделись сходные фигуры в неизменном пейзаже. У мельничной плотины, где она в детстве училась кататься на коньках, они с малышом, которого она везла на санках, смотрели сейчас, как горностай, по‑зимнему снежно-белый, то показывает, то прячет среди брусьев мельницы свой хвост с черной кисточкой. Она могла увидеть зверька глазами деда.