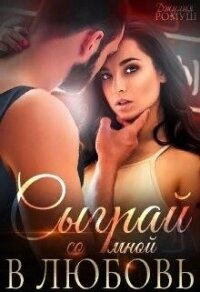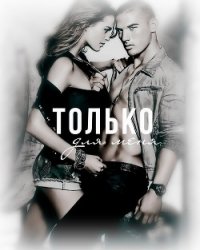Автопортрет. Самоубийство - Леве Эдуар (лучшие книги TXT, FB2) 📗
Ты не из тех, кто угасает больным и старым, с телом-призраком, уподобившись смерти еще не переставая жить. Их кончина — венец их дряхлости. Умирающая развалина, уж не избавление ли это, не смерть ли смерти? Ты же ушел исполненным жизни. Молодой, живой, здоровый. Твоя смерть была смертью жизни. Мне тем не менее нравится думать, что ты воплощаешь обратное — жизнь смерти. Я не пытаюсь объяснить, в какой форме ты пережил самоубийство, но твое исчезновение настолько неприемлемо, что вместе с ним рождается безумие: начинаешь верить, что ты вечен.
Ты не побывал в Перу, ты не любил черные ботинки, ты не ходил босиком по дороге из розовой гальки. Количество того, что ты не сделал, вызывает головокружение, потому что оно высвечивает количество того, чего мы будем лишены. Нам просто недостанет времени. Ты предпочел обойтись без него. Ты отказался от будущего, которое позволяет длить жизнь, поскольку его считают бесконечным. Хотят преуспеть — объять всю землю, перепробовать все плоды, полюбить всех на свете. Ты отказался от подобных иллюзий, которыми нас питает надежда.
В путешествии очередной пункт назначения казался тебе привлекательнее того, где ты находился, пока, добравшись до него, ты не понимал, что неудовлетворенность никуда не делась: мираж сдвинулся еще на шаг. Зато предыдущие пункты по мере отдаления от них становились все привлекательнее. Прошлое охорашивалось, будущее притягивало к себе, но настоящее угнетало тебя.
Ты путешествовал ради того, чтобы просмаковать свою чуждость в чужом городе. Ты становился зрителем, а не действующим лицом: блуждающим соглядатаем, безмолвным слушателем, случайным туристом. Ты наугад посещал общественные места, площади, улицы, парки. Заходил в магазины, рестораны, церкви, музеи. Ты любил доступные для публики места, где никто не удивится, если вдруг кто-то замешкается, замрет среди городского потока. Толпа обеспечивала тебе анонимность. Частная собственность казалась упраздненной. Однако же они принадлежали кому-то, эти дома, эти тротуары и стены, пусть ничто и не извещало тебя об этом. Смутность языка и местных обычаев мешали понять или догадаться, кому именно. Ты дрейфовал внутри зрительского коммунизма, где предметы принадлежат тому, кто на них смотрит. Посреди этой утопии, заметить которую могли только подобные тебе путешественники-одиночки, ты, о том не ведая, нарушал правила общежития и никто не вменял тебе это в вину. Ты по ошибке заходил в частные дома, присутствовал на концертах, на которые тебя не приглашали, выпивал и закусывал на банкетах, повод которых начинал проясняться только тогда, когда начинались речи. Если бы ты так вел себя в своей стране, тебя бы приняли за проходимца или сочли ненормальным. Но необычные манеры иностранца сходили тебе с рук. Вдалеке от родных пенатов ты смаковал удовольствие быть безумцем, но не душевнобольным, стать идиотом, не поступаясь разумом, оказаться самозванцем, не будучи в том виновным.
Чужая страна была для тебя персонажем, тебе хотелось столкнуться с ней на равных, как с другом, с которым встречаешься с глазу на глаз в кафе. Если ты путешествовал со спутником, страна съеживалась: наравне со страной героем путешествия становился твой спутник. Что касается путешествий в составе группы, страна в конце концов становилась для нее радушным безмолвным хозяином, о котором забываешь, как о слишком застенчивом сотрапезнике, так что главный герой оборачивался простым задником. По возвращении из групповой поездки в Англию, полной забав и болтовни, ты решил, что с организованными формами отдыха отныне покончено. Ты прогулялся с компанией слепцов. Впредь ты будешь путешествовать, чтобы видеть. И в одиночку, чтобы раствориться в зрелище неизвестного. Факты противоречат этому решению: за границу ты больше не выезжал.
За столиком в кафе тебе достаточно было всего несколько секунд понаблюдать за праздношатающимися прохожими, чтобы охарактеризовать каждого парой-другой колких слов. Отдельного индивида или какую-то его черту ты возводил в жесткую категорию. Пятидесятилетний девственник, карлик-дылда, людоед в слюнявчике, групповик-инсайдер, обузданный коммерсант, крашеный старик на каблуках, педантичный педофил, гетеропедик. Очевидность свербела в ушах твоих собеседников, провоцируя на более ехидный, чем у тебя, смех. Ты не был ни злобен, ни циничен — просто безжалостен. Расставаясь с тобой пополудни в субботу, в центре города, после сеанса панорамного осмотра толпы через окна закусочной впору было задаться вопросом, как бы ты описал нас, пройди мы перед тобой несколькими мгновениями ранее. И вздрогнуть при мысли, что твой проницательный глаз выловил бы в каждом из нас воплощение какого-то типа.
Ты читал словари, как другие читают романы. Каждая словарная статья — это персонаж, говорил ты, его можно найти и под другой рубрикой. Действия, причем многообразные, организуются по ходу случайного чтения. В зависимости от порядка история меняется. Словарь больше напоминает мир, чем роман, поскольку мир — отнюдь не связная последовательность событий, а созвездие воспринимаемых вещей. Когда на него смотришь, не связанные друг с другом предметы собираются вместе и географическая близость наделяет их смыслом. Если события следуют одно за другим, принято считать, что это некая история. Зато в словаре времени не существует: АВС не более и не менее хронологично, чем ВСА. Описывать твою жизнь по порядку было бы абсурдно: я вспоминаю о тебе наугад. Мой мозг воскрешает тебя в случайных подробностях, словно выуживает шары из урны.
Не слишком веря россказням, ты выслушивал чужие истории рассеянным ухом, выискивая в них какие-то зацепки. При сем присутствовало твое тело, а дух то отсутствовал, то вновь появлялся, как мерцающий слушатель. Ты реконструировал свидетельства совсем не в том порядке, в каком их излагали. Ты воспринимал длительность так, как рассматривают трехмерный объект, кружась вокруг, чтобы одновременно представить его всеми гранями. Ты искал моментальный ореол других, фотографию, которая в одной секунде резюмирует прокрутку их лет. Ты реконструировал жизни и оптические панорамы. Ты сближал отдаленные события, сжимая время, чтобы каждое мгновение примыкало ко всем остальным. Ты переводил длительность в пространство. Ты разыскивал алеф другого.
К соседней усадьбе примыкал заброшенный теннисный корт. В ту пору, когда его еще использовали, на нем играли раз десять в году. Лишенный ухода, он постепенно пришел в запустение, посередине обвисла сетка, почернела белая разметка, грунт разъели зеленые грибы. Ты видел его через растущие по краю усадебного парка туи; окруженный проржавевшей решеткой, покинутый взрослыми, в какие-то воскресенья вновь обживаемый детишками — словно дом с привидениями, по которому среди бела дня бродят призраки в старомодных спортивных костюмах. Он пугал тебя как двадцатилетний босяк или искалеченная красавица—ущербные, полуживые фигуры. Ты усматривал в этой современной руине свой автопортрет, но не обходил се стороной. Пройти рядом было все равно что лицезреть тщету мира. Тебя смущали метафоры смерти, по ты не избегал их зрелища. Они были испытанием, которое требовалось преодолеть, чтобы оценить жизнь, памятуя о ее противоположности.
Тебя удивляло не то, что ты чувствуешь себя неприспособленным к миру, а то, что мир произвел существо, остающееся в нем чужаком. Губят ли себя растения? Умирают ли животные от безнадежности? Они либо функционируют, либо исчезают. Возможно, ты был выпавшим звеном, побочной тропой эволюции. Вре́менной аномалией, которой не суждено расцвести снова.
Ты забывал детали. Из тебя вышел бы плохой свидетель, ты не смог бы восстановить по порядку предшествующие происшествию события. Но твои медлительность и неподвижность позволяли тебе, словно в замедленной съемке, видеть общее движение, которое за спешкой и мелочами от других ускользает. В каком-то провинциальном городке, глядя из окна гостиничного номера на местный рынок, ты понял, что шатающаяся по нему толпа очерчивает треугольник, который раздувается и сдувается с циклически меняющейся амплитудой. Праздное наблюдение? Никчемная наука? Твой ум не гнушался пустопорожними темами.