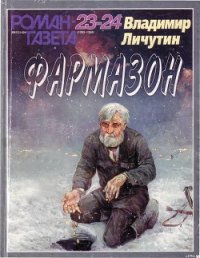Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
С этими словами Фарафонов снова приоткрыл трезвый взгляд, и сквозь серенькие невзрачные глаза, окруженные частой сеткой мелких морщин, глянул вдруг зоркий соглядатай.
Когда говорит Фарафонов в запале, в заводе, то правду распознать чрезвычайно трудно, но слушать интересно.
Фарафонов замолчал, дожидаясь от меня какого-то нужного ему ответа, и я заметил уклончиво:
– Ну почему же... Во всяком народе есть всякие люди...
– Ты меня боишься, Паша, а я тебя люблю, как сына. Ведь не к кому-то другому пришел, к министру или генералу, а у меня много таких, кто с радостью примет и станет угощать осетринкой и черной икрою в большом фарфоровом блюде восемнадцатого века, которую можно черпать серебряной ложкой, как геркулесовую кашу... А это невкусно, Паша, даже противно. Больше двух ложек не проглотить... Но я пришел отдохнуть именно к тебе, хотя по Москве ходят слухи, что ты антисемит, и только потому Ельцин загнал тебя в забвение, хотя ты ему сделал многое, ты, Хромушин, подставил свое кривое плечо, ты его научил говорить корявые рявкающие фразы, которые все приняли за его силу... Ну да речь не о том... Ты только меня держись, и я тебе помогу.
Язык Фарафонова стал запинаться, заплетаться, но я хорошо знал своего гостя; чтобы его сронить совсем, подложив под голову кипу старых журналов «Наш современник», понадобится еще не меньше бутылки коньяку, и это при той скудной, даже отвратительной, закуси, которую сообразила на скорую руку моя Марьюшка.
– Ну какой ты антисемит? – опередил меня Фарафонов, заметив, что я решился вставить фразу. Я уже утомился, легкий хмель улетучился, и, глядя на часы, вдруг с гнетущей тоской почувствовал, как бессмысленно улетучивается мое живое время, которое с такой яростью пожирает незваный гость. – Если хочешь знать, я куда больший антисемит, хотя у меня две дочери – еврейки, а мой дедушка, почетный житель Израиля, покоится в иудейских песках, где ползают вараны и скорпионы, а наглые арабы мочатся на его незабвенную, святую для каждого еврея могилку. – Фарафонов вдруг приклонил ко мне вплотную обезьянью головку и прошептал таинственно, выпучивая глаза: – Ты знаешь, мой дед совершил обрезание в девяносто лет. И все из-за любви к Саре... А что там было обрезать-то? Хи-хи... Одна шкурка... Хотя как знать... Тебе, психологу, будет, наверное, интересно. Я впервые откроюсь... Я такой же, как ты, во мне течет мужицкая кровь, и никакие звания, никакое дворянство не растворят эти кровяные шарики. Ты знаешь, Павлуша, мне недавно дали орден и звание потомственного дворянина. Я, Фарафонов, теперь потомственный дворянин, не хухры-мухры. И я скажу тебе: между внешним и внутренним, как говорят в Одессе, две большие разницы. Словесно-то я антисемит, и многое меня в евреях раздражает, порою очень хочется пинка под зад дать. Я Кларе давал, и ты знаешь, ей нравилось... А внутри я другой, во мне слеза дрожит, мне их отчего-то жаль, и потому у меня среди знакомых так много евреев. И такое чувство у всякого русского. Это раздвоение – наша слабость и наша сила. Оно нас роняет в чем-то материальном, а в духовном крепит и возвышает... Это не какая-то там немчура: то евреев изгоном гнали, не ведая предела, а нынче легли под них, и только ленивый не плюнет и не оботрет ноги. Зря про нас говорят, де, мы, русские, ни в чем не знаем меры, де, нас раскачивает о берег, как штормовую волну; нет, мы удивительно постоянны душевно и духовно уже тысячи лет, словно бы нас запрограммировали и закодировали на определенную задачу. Невольно в Бога поверишь... Может, мы родственники близкие? Ты об этом не думал? Ведь ты психолог...
– Нет, не думал, и желания думать нет. Нас приучают, заставляют думать о зряшном, о пустом, гонят на ложный след и тем отнимают последние силы.
– Пашенька, поверь мне, это не зряшное. Это не пустое. Это то коренное, о что мы запнулись, но не хотим принять как коренное, бежим прочь и не можем убежать. Мы на словесном уровне не любим евреев, а немцы, американцы иль те же поляки – на биологическом. Говорить-то они что угодно могут, такой мишуры навешают, так подпудрят и подсахарят каждый комплимент, видя за ним грядущую выгоду для себя, а внутри живет крайняя степень отвращения, потому что они любят себя больше других. Они соперники евреям, они так же хотят денег, как и евреи. Антисемиты – это те, кто хочет денег. Вот где причина вражды. А мы – юроды Бога ради, точно так же и на америкашек можем кричать, обзывая их гнусными примитивными свиньями, и на лягушатников, и на макаронников, и на тех же полячишек драных, городить, что на язык прильнет, а внутри-то мы их всех жалеем, как братьев во Христе, и скорбим по ним, что заблудились и бредут в ад самоволкой, жалеем куда больше, чем себя, ибо гордыни той не имеем, как саксоны – эти островные пираты, что живут по сей день награбленным... Как же, они – пуп земли, солнце только для них одних восходит, – столько пустой фанаберии, а ткни пальцем – внутри мох да фанера. Деньги – главная мера зла и вражды.
– Если это так, то отчего они не хотят нас понять? Вопят и голосят по всему миру, словно бы мы, а не испанцы, французы иль те же немцы изгоняли евреев из своих домов. А чуть прижмет, спасаться бегут к нам.
– Это уже другое... Может, их томит зависть иль ревность к нашим пространствам. Может, им кажется, что они появились здесь на свет Божий, а мы, русские, изгнали их в Африку.
– Вот именно... Пространства, живые земли им нужны. Жадность их томит – и больше ничего. Земля – это деньги, и жизнь, и будущее... А мы – есть мы, великий русский народ, и не надо нас ни с кем сравнивать.
– Уж не такие мы великие, Павлик. Зачем такие крайности? Мы лучше всех, мы краше всех, мы во всем особенные! Великие, Павел, не живут как дикари, только что выползшие из пещер. У них, по крайней мере, теплая уборная, и они перед едою моют руки.
– Дурак ты, хоть и академик без пяти минут. Нас, русских, делают великим народом наши великие пространства – и от этого никуда не деться. Хотя бы нынче же превратились в африканских пигмеев и стали стрелять из бамбуковых трубок отравленными стрелами.
Расслышав со стороны свой визгловатый мерзкий голос, я понял, что кричу на Фарафонова и не просто ору на тонах, но мне нравится мое неистовство, как бы я освобождаюсь от накипи, нисколько не стыдясь своего раздражения. Фарафонов несколько скис, стремительно угас от моего напора, скуксился, потряс пустую бутылку, недоуменно разглядывая ее на свет, и растерянно полез под стол в свой непустеющии кожаный портфель. В его положении лучше бы бежать прочь от Хромушина домой, но как вернуться в постылое жилье, если так грустно, так одиноко бродить по своей громадной опустевшей квартире с двумя туалетами, итальянскими мебелями, зачехленными стульями и слушать похоронный печальный гул огромных хрустальных люстр, похожих на соборное паникадило... Фарафонов намерился упиться здесь, в холостяцкой конуре, и никакая сила не могла бы выгнать его... Если бы сюда еще девку с панели ему да грязцы, ах, как бы хорошо стало тогда упасть совсем, чтобы наутро, помолившись, искренне поплакавшись Господу в жилетку, снова восстать сердцем для воскрешенной жизни.
– Ну зачем ты так? Зачем? – с недоумением спросил Фарафонов и подлил себе коньячку. – Павлик, ты меня не обижай.
– Не буду.
– Может, тебе помочь? Может, тебе надо денег? – Фарафонов полез во внутренний карман и стал задумчиво рыться там, нашаривая нечто непослушными пальцами, словно бы на ощупь листал в пачке купюры и боялся ошибиться. – Если надо, ты скажи.
– Скажу, Фарафонов, обязательно скажу, когда понадобится миллион.
– Вот ты какой шутник. А я к тебе с чистым сердцем... Миллиона не дам, но тысячу баксов...
– Что мне с ними делать, Фарафонов? Я таких денег и в руках не держал. – Я шутливо заградился от гостя ладонями, как щитом.
– Как хочешь, было бы предложено. Я знаю, ты человек гордый, – торопливо согласился Фарафонов. – Ты, конечно, по-прежнему занимаешься ерундой. При советской власти тебя чуть не отправили в психушку Сербского. А ты и нынче валяешь дурака. Не пойму, для чего тебе это нужно? Если дочь не ссучится, то что-нибудь получится. Ты так считаешь?