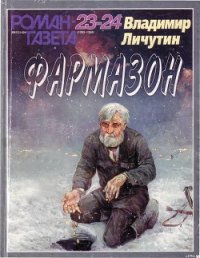Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
– Артиллеристы! Сталин дал приказ!..
Пришлось и мне поддержать тенорком. Но вся песня зачином и кончилась – не хватало пороха потянуть ее, не было еще того должного накала в груди, когда сердце стопорится от внутреннего душевного напряга и надо немедленно дать ему слабину – выплеснуться в крике. Как бы осадок в горле давал звук, недоставало ему напора, который обычно, когда поется легко, накатывает из брюшины, словно бы там и хранится до времени вся певческая сила...
– Кто-то песенки поет, а кто-то девочек гуляет... Надо осадить коньячком. Худо, Паша, что ты не пьешь. И потому никогда не станешь академиком. Не пьешь и не знаешь анекдотов, не умеешь шестерить и дарить презенты. А как без этого? Ну как завоевать женское сердце? Да никак... И вот сидишь в хрущобке, как хромой сыч, которому надрали хвостягу. Хочешь, я тебя познакомлю с куколкой? Кандидат твоего профиля, есть квартира, машина и дача. Сорокалетняя женщина без недостатков, будет носить тебя на руках. Ученая дама и замужем, главное, не была. Справишься?
– Боюсь, не потяну. Это страшные женщины, кто до сорока не был замужем. Мне бы, Фарафонов, девушку лет тридцати, чтобы детей могла нарожать. Губастую, глазастую, грудастую... Ну как ты не можешь понять? Чтобы без всякого выпендрежа: дом, муж, дети... Зачем бабе науки? Чтобы натирать на заднице мозоли? Науки бабу только портят, выжимают соки, страсти, красоту, надежды, а взамен всучивают лишь груду ненужных бумаженций, которые скоро иструхнут в архиве, одиночество, тоску и ненависть ко всем... Мне бы простую, пусть бы и доярку иль ремонтерку, что ходит по путям с ломом и кувалдой... Чтобы без плесени внутри, без истерик. Хватит с меня подобных феминисток плоскогрудых, которые кичатся своей свободой. Или того хуже: трясут своими надутыми сиськами по телевизору и призывают власти русских баб стерилизовать, чтобы не рожали... Может, ты мне Плохову предлагаешь? Есть такой кастрированный пудель, который, надоедливо тявкая, отчего-то называет себя женщиной... – Я выплеснул наболевшее с какой-то неожиданной тоскою, может, и винцо, которое я привечал крайне редко, разжижило меня, и душа дала течь. Фарафонов вдруг проникся моим состоянием и сказал участливо, как тяжелобольному:
– Ну не скажи, старичок... У той все на месте... Титьки по пуду. И неужели ты думаешь, что я своему другу всучу бросовый товар? Ну ладно! Не хочешь, поищем еще в моем справочном отделе. Только ты не расстраивайся, здоровье дороже... Тебе сколько лет? Ага... Пятьдесят. Старый конь борозды, конечно, не испортит, но и глубоко не вспашет. Рожай, дорогой, плодись. – Фарафонов говорил мелко, причмокивая, словно бы слизывал с губ остатки коньяка. – У меня и такая есть на примете: молодая, боевая, но скромница, коса до пояса, молится и хочет в монастырь... Правда, с восточной кровью... О тебе всякие ходят слухи. Как ты насчет крови? – Фарафонов неожиданно протрезвел, глянул зорко, испытующе, словно перед этим не он выпил две бутыли «шампани».
– А что, разве есть бескровные? Так те – резиновые, надувные... Маде ин Америка... Они, Фарафонов, не по мне, – слукавил я, будто не понял намек гостя.
– В ней что-то библейское; ноги, как две родосские мраморные колонны, но без прожилок, волос – водопад, глаза, как два фарфоровых блюдца из Гжели...
– Голубые, что ли? – невольно загорелся я. – И неужель голубые? Ты, Фарафонов, никому не верь, что болтают про меня. Я другой, я хороший. Я люблю всех женщин мира, только бы они меня любили... С востока голубь прилетел, и волхвы пришли оттуда, и солнце там просыпается. И мы, русские, оттуда же... Это что-то да значит, Фарафонов? Восток – дело тонкое, мистическое. А кровь – душа человека. Ты говоришь, она православная, в монастырь хочет? Так сватай, и нынче же! Я с закрытыми глазами, обеими руками – только за! Фарафонов! Ты мой друг! А что болтают про меня – не верь! – кричал я в запале, а голова моя кружилась, как в глубоком свежем хмеле, который я однажды испытал в юности: будто лечу, и земля, голубея, отодвигается от меня невозвратно, и совсем не страшно... Господи, да неужели было и такое?
– Ну не все сразу. Охолонь, Хромушин... Хочешь анекдот? Послали старую черепаху за водкой. И час ее нет, и другой. Стали ругать на чем свет стоит. А черепаха выглянула из-за угла и говорив «Если будете возникать, вообще не пойду...»
Я, грустный обычно человек, внезапно истерически рассмеялся, в меня влез хохотун и не хотел покидать. Аж в груди заболело, и я стал синеть. Это, конечно, шампанское, настоянное на конской моче, давало о себе знать, и вся дурь, что хоронилась во мне, вдруг полезла наружу...
– Юрий Константинович! – закричал я восторженно, любя этого капризного, ужасно самолюбивого человека. – Вам давно пора в академики! Эти бездарные сухари, эти чванливые недотыкомки, купившие честь и славу за тридцать сребреников, они недостойны даже вашего ногтя.
Фарафонов недоуменно, но мягко, по-отечески снисходительно посмотрел на меня. Его носик пипочкой покраснел еще пуще.
Ну так льстить нельзя даже в запале. Ну, конечно, я перебрал лишнего, слишком много влил в патоку меда и так пересластил, что даже честолюбивого Фарафонова внешне перекосило... Но знайте, господа, что на самом деле лести много не бывает, ее просто надо подать с таким гарниром, который бы убрал остроту ее и назойливую пряность.
И Фарафонов, чтобы замять возникшую неловкость, торопливо подлил себе коньяку, освежил бокал и, потряхивая бурую жидкость на свету, как бы проверяя на взгляд истинность напитка, сказал задумчиво-размягченно:
– Паша, милый мой друг... Скажу тебе правду. В отличие от тебя, простодыры, у меня есть все, и мне ничего не надо в этой жизни. У меня бывшая жена с дочкой Ларой в Израиле, и, знаешь ли, неплохо себя чувствуют... Другая бывшая с дочкой – в Марселе, недавно купили домик в Швейцарских Альпах... Один сын – в Канаде брокером, другой – в Швеции электронщиком... И вот последняя укатила в Америку. Все от меня подальше, никому я не нужен. А я ведь еще молодой – мне шестьдесят два. Я еше – ого-го!
– Да ты, оказывается, у нас Синяя Борода и многоженец...
– Из-за этого меня в свое время вымели из ЦК. Тогда я был молод, гулял по всему миру, как по родной столице, и всюду – личная машина, лучшие гостиницы, доллары, девочки. А чем я занимался? Я придумывал всякие утки и внедрял их во вражеские газеты. Короче, дурил проклятым капиталистам головы. Чехов для меня был хобби, и никогда бы я не подумал, что великий писатель станет меня кормить в старости и подпитывать душу мою, чтобы вовсе не сгнила... Нынешние недоучки, шпаргалочники, кто по-змеиному прополз во власть, прежде готовы были на коленях стоять передо мною. И стояли... Я многих могу назвать. А сейчас головы воротят... Сволочи все, продажные сволочи... И вот я никому не нужен. И готов заплакать... Никто не позвонит, не справится о здоровье: Юрий Константинович, как вы там?.. И эта дура-баба увезла ребенка в синтетическую Америку, чтобы прихватить там СПИД и сделать резиновые титьки. Господи, в какое время мы живем. А ведь ее, суку, любил. Каждый месяц – тысячу баксов на личные расходы. Так ей мало, все мало... Не женись, милый Хромушин. В каждой девочке живет сука и баба-яга.
– Ну отчего же, – заплетающимся языком ответил я, упорно отводя взгляд от Фарафонова, словно уличил его в чем-то зазорном. Все же сермяжная правда в его словах была. Гость – не дурак, он лучше меня понимал, что его счастливое время тоже безвозвратно закатилось, и, может, потому пил горькую. – Ты знаменит, у тебя прошлое, у тебя связи, все к тебе с поклоном... Ты без пяти минут академик.
– Жалкий завистник! Кто тебя тянет за язык? Зачем ты смеешься надо мною? До чего я докатился, Паша! Даже ты, неудачник, смеешь меня оскорблять! Но я стерплю, как последний русский царь, и смиренно пойду на Голгофу. Я никому не нужен. Ха-ха, дожился... Конечно, сад рубят – щепки летят. Это вам не лес, бездари. Лес заново вырастет, а тут сад, пусть и старый, сколько ему осталось жить? Ну лет десять, пятнадцать... Что вам, места мало? Я – старый абрикос, корявый, гнутый, мох по стволу. Но я даю плоды, от которых млеет душа. А мне показывают на крохотный росток возле и говорят: он лучше, вас. Кто лучше-то? Кто?! Да ему еще вырасти надо, его сто раз ветром сломает, черви пожрут, кроты съедят коренья... А я, давший за жизнь тысячи плодов, им не нужен. Этой сучьей власти не нужен. Хотят, чтобы прогнулся? – так, пожалуйста; чтобы вылизал от макушки до пят? – пожалуйста... И прогнусь, и вылижу, но внутри-то я их ненавижу, и ничего со мною не поделать. И они понимают, что я их ненавижу и презираю, жалких выскочек. И потому не нужен. Нигде не нужен, Паша. В Америке полгода прожил – гонят, говорят – хватит; поехал в Израиль, там же у меня родной дед похоронен, старый коммунист, друг Анастаса Микояна. О! Это целая история. Старик был бабник, каких поискать. И в восемьдесят шесть лет влюбился в Сару Моисеевну, которой было семьдесят пять, и у них была, Паша, такая любовь, такая любовь, они ходили по улицам Анапы за ручку, как влюбленные прыщавые юнцы, весь город показывал на них пальцем, де, с ума сошли. А они ходили, земли под собою не чуя. И вот мой дед, член партии с девятьсот пятого года, женился на Саре Моисеевне, этот старый мудак из тверской деревни, и уехал с нею в Землю обетованную, и там прожил до ста лет без года и был похоронен с почестями в иудейских песках. Я поехал поклониться его праху, но там и моя бывшая с дочерью... Приняли хорошо, да. А через месяц – пинком в двадцать четыре часа: нам, говорят, стало известно, что вы русский шпион. Это я-то шпион, Паша? Да у меня геморрой четвертой степени, и я оставляю за собою кровавый след, как затравленный заяц... Да у меня вырезали метр кишок и вставили синтепоновую складную трубку. У меня зрение в одном глазу минус четыре, а в другом – минус восемь, и когда я смотрю на твою матушку, она мне кажется Софи Лорен... Моя бывшая – Клара – так хотела оставить меня у себя, похоронить возле знаменитого дедушки Николая Сукачева и создать там русский некрополь знаменитостей, а после включить в туристический маршрут, чтобы на моем истлевшем трупике сшибать бабки... Я тебе скажу, Павел Петрович, евреи – гнуснейший народ...