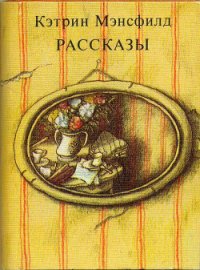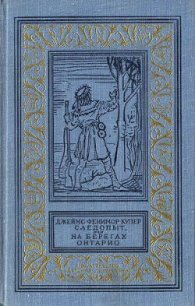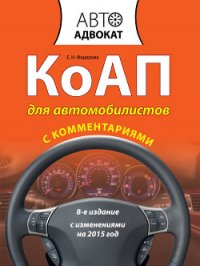Я исповедуюсь - Кабре Жауме (книги .TXT) 📗
– Но я…
– Молодой человек, не настаивайте. Мы ничего не имеем против вас, – соврал сеньор Волтес, – но поймите, мы должны защитить свою дочь.
Я был в отчаянии и ничего не понимал. Сеньор Волтес встал и знаком показал, что мне тоже следует встать. Я медленно повиновался. Я тот еще плакса и не мог сдержать слез – они жгли мои красные от унижения щеки, словно капли серной кислоты.
– Это какое-то недопонимание.
– Нам так не показалось, – сказала на своем гортанном каталанском мать Сары (высокая, с некогда темными, а теперь несколько выбеленными сединой волосами и карими глазами, похожая на фотографию Сары через тридцать лет). – Сара ничего, ничего, ничего не хочет знать о вас.
Я уже выходил из гостиной, повинуясь жесту сеньора Волтеса. Но вдруг остановился:
– Она ничего не просила передать мне? Может быть, письмо или записку?
– Нет.
Я вышел из дома, где тайно бывал, когда Сара меня любила, не попрощавшись с ее родителями – такими вежливыми и такими непреклонными. Вышел, пытаясь сдержать слезы. Дверь тихо закрылась за мной, и я несколько секунд простоял на площадке, как будто бы от этого был ближе к Саре. Потом я безутешно разрыдался.
– Я не пытаюсь сбежать, у меня нет для этого никаких причин. – Я выдержал паузу, чтобы подчеркнуть сказанное. – Ты поняла меня, мама?
В третий раз я соврал матери и клянусь, что услышал, как вдруг запел петух.
– Я прекрасно тебя поняла.
Она посмотрела мне в глаза:
– Послушай, Адриа…
Впервые она назвала меня не «сын», а «Адриа». Впервые в жизни. Двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят какого-то или семидесятого года.
– Да?
– Если не хочешь, можешь не работать. Занимайся скрипкой, читай свои книги. А когда я умру, возьмешь управляющего в магазин.
– Не говори о смерти. И со скрипкой покончено.
– Куда, ты говоришь, хочешь поехать?
– В Тюбинген.
– Где это?
– В Германии.
– И что ты там забыл?
– Косериу.
– Кто это?
– Разве ты не гоняешься всю жизнь за девушками на факультете? Система, норма, речь.
– Ладно тебе, кто это?
– Румынский лингвист, у которого я хочу учиться.
– Теперь, когда ты сказал, мне кажется, я что-то про него слышал.
Он замолчал, хотя был раздражен. Но потом не выдержал:
– Разве ты здесь не учишься? Разве ты не отучился уже половину курсов, к тому же на отлично?
Я не сказал ему, что хочу ходить на лекции Нестле, потому что, когда мы с Бернатом встретились в шумном и тесном кафе на факультете, где все глотали на ходу кофе с молоком, я уже знал, что Вильгельм Нестле несколько лет как скончался. Упомянуть его было бы все равно что поставить заведомо ложную ссылку в статье.
Два дня мы не виделись, и я ничего о нем не знал, а потом он пришел ко мне домой готовиться к экзамену, как если бы я был его преподавателем. Адриа открыл дверь, и Бернат вместо приветствия ткнул в него пальцем и торжествующе сказал:
– А ты не подумал, что в Тюбингене все занятия проходят на немецком?
– Wenn du willst, kannst du mit dem Storioni spielen [190], – с холодной улыбкой ответил Адриа, пропуская его в квартиру.
– Я не понял, что ты сказал, но согласен.
Канифоля смычок – слегка, чтобы не испортить звук, – он процедил: некрасиво, что ты мне этого раньше не сказал.
– Почему?
– Ну, предположим, я твой друг.
– Поэтому я тебе сейчас все рассказал.
– Настоящий друг, идиот! Ты мог бы сказать: мне тут пришла в голову безумная мысль уехать на несколько недель в Тюбинген, – тебе не кажется, настоящий ты мой друг? Ты не мог так сказать?
– Ты посоветовал бы мне выбросить это из головы. А на эту тему мы уже разговаривали.
– Ну не дословно так.
– Ты хочешь, чтобы я всегда был под рукой.
Вместо ответа Бернат положил партитуры на стол и стал играть первую часть бетховенского концерта. Я, пренебрегая вступлением, присоединился к нему с оркестровой партией в переложении для фортепиано, стараясь имитировать даже тембр отдельных инструментов. Закончив играть, я был изможден, но взволнован и счастлив, потому что Бернат сыграл безупречно, не просто совершенно. Как будто хотел показать мне, что ему не понравилось мое последнее замечание. Когда он закончил, мне не хотелось нарушать воцарившуюся в комнате тишину.
– Ну?
– Хорошо.
– И только?
– Очень хорошо. Совсем иначе.
– Иначе?
– Иначе. Если я правильно услышал, ты был внутри музыки.
Мы помолчали. Бернат сел и отер пот. Он посмотрел мне в глаза:
– На самом деле ты хочешь сбежать. Не знаю от кого, но сбежать. Надеюсь, не от меня.
Я посмотрел другие партитуры, которые он принес:
– Здорово, что ты играешь все четыре пьесы Массиа. Кто тебе аккомпанирует на фортепиано?
– Ты не подумал, что тебе может надоесть изучать все эти идеи и прочее, что ты собрался изучать?
– Массиа этого заслуживает. Очень красивые пьесы. Больше всего мне нравится Allegro spiritoso.
– И потом, зачем тебе ходить слушать лингвиста, если ты собрался изучать историю культуры?
– И внимательно с чаконой – она очень коварна.
– Да чтоб тебя! Не уезжай.
– Да, – сказал он. – Из Высшей школы искусств.
– А в чем дело?
От ледяной недоверчивости сеньоры Волтес-Эпштейн он оробел. Но сглотнул и сказал: необходимо выполнить кое-какие формальности в связи с переводом в другое учебное заведение, для этого нам нужен адрес.
– Ничего вам не нужно.
– Нет, нужно. Обязательство поручителя о возврате.
– А это еще что? – В ее словах сквозило искреннее любопытство.
– Ничего. Так. Но его должна подписать заинтересованная сторона.
Он взглянул в бумаги и беззаботно добавил:
– Заинтересованная особа.
– Оставьте мне документы и…
– Нет-нет. Не имею права. Может быть, если вы назовете мне учебное заведение, в которое она перевелась в Париже…
– Нет.
– Там у них в Школе искусств не знают… Мы не знаем, – поправился он.
– Кто вы?
– Простите?
– Моя дочь никуда не переводилась. Кто вы?
– И она захлопнула дверь прямо у меня перед носом, бац!
– Она тебя заподозрила.
– Да.
– Дело дрянь.
– Да.
– Спасибо, Бернат.
– Мне… Наверняка я мог сделать все намного лучше.
– Нет-нет. Ты сделал все, что мог.
– Вот это меня и бесит.
На несколько секунд повисло тяжелое молчание, потом Адриа сказал: прости, мне нужно выплакаться.
Экзамен Берната завершился нашей чаконой из Второй сюиты. Я столько раз ее слышал в его исполнении… И мне всегда было что сказать ему, как если бы я был виртуозом, а он моим учеником. Он начал разучивать ее, когда мы услышали исполнение Хейфеца в Палау-де?ла?Музика. Хорошо. Технически совершенно. Но опять бездушно – может быть, из-за волнения во время экзамена. Бездушно, как если бы наша домашняя репетиция, с которой не минуло еще и суток, нам привиделась. Когда Бернат играл на публике, он сдувался, не мог взлететь, ему не хватало Божественного озарения, отсутствие которого он пытался восполнить усердными занятиями, и результат был хорош, но слишком предсказуем. Да, мой друг был конченой предсказуемостью, даже в своих порывах.
К концу экзамена он совершенно взмок и наверняка думал, что справился. Трое экзаменаторов, просидевших все два часа, что он играл, с кислыми минами, посовещались несколько секунд и решили поставить ему отлично единогласно и удостоить личного поздравления каждого экзаменатора. И к Трульолс, которая пришла послушать Берната, подошла его мама и обняла и вела себя так, как ведут себя все мамы, кроме моей, а Трульолс, взволнованная, как волнуются некоторые учителя, поцеловала Берната в щеку и сказала с уверенностью пророка: Бернат, ты лучший из моих учеников. Тебя ждет блестящее будущее.
190
Если хочешь, можешь играть на Сториони (нем.).