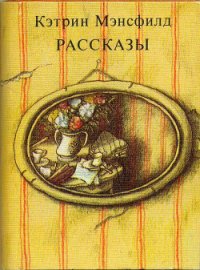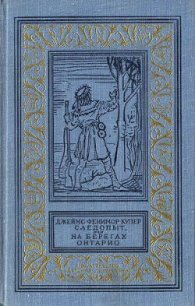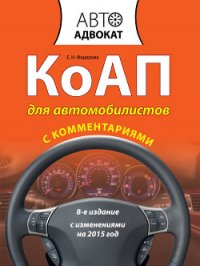Я исповедуюсь - Кабре Жауме (книги .TXT) 📗
– Да.
– Понравилось?
– Нет.
Я должен был промолчать, знаю. Но не смог. В этом я в мать.
– Что значит «нет»? – У него даже голос изменился, стал резче, напряженнее, настороженнее.
– Не важно, оставь.
– Нет, я хочу знать.
– Хорошо, согласен.
Лола Маленькая хозяйничала в глубине квартиры. Мать была в магазине. Адриа без сил упал на диван. Бернат перед ним – со скрипкой в руке, сам как натянутая струна – ждал вердикта, и Адриа сказал: ну?у?у, технически это совершенно или почти совершенно, но ты не проникаешь в душу вещей; мне кажется, ты боишься истины.
– Ты не в себе. Чтo есть истина?
И Иисус вместо ответа промолчал, а Пилат в беспокойстве вышел. Но поскольку я не знаю, чтo есть истина, мне пришлось ответить:
– Я не знаю. Я узнаю? ее, когда слышу. А в тебе я ее не узнаю. Я узнаю? ее в музыке и в поэзии. И в прозе. И в живописи. Но встречаю ее лишь изредка.
– Ссучья зависть!
– Да. Признаю: я завидую тому, что ты можешь это сыграть.
– Ну да. Давай исправляйся.
– Но я не завидую тому, как ты это играешь.
– Ха, да ты просто сочишься ядом.
– Твоя задача – суметь уловить и выразить истину.
– Вот как.
– По крайней мере, тебе есть к чему стремиться. Мне – нет.
В общем, дружеский вечер, во время которого один друг пытался утешить в горе другого, закончился глухой ссорой из-за эстетической истины и – да пошел ты куда подальше, понял, да пошел ты. Теперь я понимаю, почему сбежала Сага Волтес-Эпштейн. И Бернат вышел, хлопнув дверью. Через несколько секунд Лола Маленькая заглянула в кабинет и спросила: что случилось?
– Да ничего, просто Бернат спешит, ты его знаешь.
Лола Маленькая посмотрела на Адриа, который внимательно изучал скрипку, чтобы не сидеть с остановившимся от горя взглядом. Лола Маленькая хотела что-то сказать, но сдержалась. Тогда Адриа заметил, что она еще стоит в дверях, словно собираясь заговорить.
– Что? – спросил он, хотя по лицу его было видно, что он не в настроении разговаривать.
– Ничего. Знаешь, пойду готовить ужин: твоя мать должна скоро прийти.
Она вышла, а я принялся стирать со струн канифоль, полностью погрузившись в свою печаль.
– Сын, да ты не в себе.
Мать села в кресло, в котором обычно пила кофе. Адриа начал разговор хуже не придумаешь. Иногда я думаю, почему меня чаще не посылали куда подальше. Потому что вместо того, чтобы сказать ей: мама, я решил продолжить образование в Тюбингене, а она спросила бы: в Германии? А здесь тебе не нравится, сын? – вместо этого я начал с того, что сказал: мама, я должен тебе кое-что сказать.
– Что?
Она удивилась и села в кресло, в котором обычно пила кофе, – удивилась потому, что мы давно уже жили под одной крышей, не испытывая необходимости разговаривать друг с другом и уж тем более необходимости говорить: мама, я должен тебе кое-что сказать.
– Я недавно говорил с Даниэлой Амато.
– С кем ты говорил?
– Со своей единокровной сестрой.
Мать вскочила как ужаленная. Я уже настроил ее против себя, и не важно, что собирался сказать дальше. Осел, просто осел, ничего не умеешь сделать.
– У тебя нет никаких единокровных сестер.
– То, что вы скрывали ее от меня, не означает, что ее нет. Даниэла Амато, из Рима. У меня есть ее адрес и телефон.
– Плетешь интриги?
– Почему? С чего бы?
– Не верь этой пройдохе.
– Она сказала, что хочет быть совладелицей магазина.
– Ты знаешь, что она украла у тебя усадьбу Казик?
– Если я правильно понимаю, усадьба досталась ей от отца, она ничего не украла.
– Она как вампир. Хочет присвоить себе магазин.
– Нет. Она хочет быть совладелицей.
– И как ты думаешь, зачем ей это нужно?
– Я не знаю. Потому что он принадлежал отцу?
– А сейчас он мой, и мой ответ на все притязания этой накрашенной суки – нет.
Да уж, хорошо мы начали. Она не сказала «ссуки», потому что в данном случае это было существительное, а не прилагательное, как в прошлый раз, когда она ругалась. Мне понравилось языковое чутье матери. Она молча мерила шагами комнату, размышляя, стоит ли продолжать ругаться или нет. И решила, что нет:
– Это все, что ты хотел мне сказать?
– Нет. Я еще хотел сказать, что уезжаю из дома.
Мать снова села в кресло, в котором обычно пила кофе:
– Сын, да ты не в себе.
Она помолчала. Руки ее дрожали.
– Чего тебе не хватает? Что я тебе сделала?
– Ничего. Почему ты думаешь, что что-то мне сделала?
Мать нервно сцепила руки. Наконец она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и положила ладони на колени.
– А магазин? Ты не собираешься когда-нибудь взять его в свои руки?
– Мне это неинтересно.
– Неправда. Это твое любимое место.
– Нет. Мне нравятся вещи. Но связанные с магазином дела…
Мне показалось, она посмотрела на меня с затаенной злостью.
– Ты просто поступаешь мне назло. Как всегда.
Почему мы с матерью никогда не любили друг друга? Это загадка для меня. Всю жизнь я завидовал детям, которые могли сказать, ай, мамочка, моя коленка! – и мама прогоняла боль поцелуем. Моя мать этого не умела. Когда я набирался храбрости сказать ей, что разбил колени, вместо того чтобы совершить чудо, она отправляла меня к Лоле Маленькой, а сама нетерпеливо ждала, чтобы моя интеллектуальная сверходаренность начала приносить плоды.
– Здесь тебе плохо?
– Я решил продолжить обучение в Тюбингене.
– В Германии? Здесь тебе плохо?
– Я хочу слушать лекции Вильгельма Нестле.
Если честно, я понятия не имел, преподает ли еще Нестле в Тюбингене. Точнее, я даже не знал, жив ли он еще. На самом деле к моменту нашего разговора он уже восемь лет как скончался. Но да: он когда-то преподавал в Тюбингене, и поэтому я решил, что хочу учиться в Тюбингене.
– Кто это?
– Историк философии. А еще я хочу познакомиться с Косериу [189].
На этот раз я не лукавил. Говорили, что он невыносим, но гениален.
– Кто это?
– Лингвист. Один из великих филологов современности.
– Эта учеба не сделает тебя счастливым, сын.
Разберемся: если смотреть в перспективе, я вынужден признать ее правоту. Ничто не сделало меня счастливым, кроме тебя, Сара, хотя ты больше всех заставила меня страдать. Несколько раз мне было рукой подать до той или иной формы счастья, порой я испытывал радость. Я познал минуты сладостного спокойствия и безмерной благодарности миру или другим людям. Я был близок к прекрасным творениям и идеям. И иногда я чувствую зуд желания обладать красивыми вещами, что позволяет мне понять слабость моего отца. Словом, поскольку мне было столько лет, сколько было тогда, я самоуверенно улыбнулся и сказал: никто не обязан быть счастливым. И удовлетворенно замолчал.
– Ну ты и дурак!
Я был обезоружен и посмотрел на мать. Всего четыре слова, а я почувствовал себя совершенным идиотом. Я был уязвлен и перешел в нападение:
– Это вы сделали меня таким. Я хочу учиться, и не важно, буду я счастлив или нет.
Каким колючим был Адриа Ардевол! Если бы сейчас я мог заново начать свою жизнь, первое, к чему я стал бы стремиться, – это территория счастья: я попытался бы укрепить и защитить ее, чтобы сохранить на всю жизнь. И если бы мой сын ответил мне, как я ответил матери, я влепил бы ему затрещину. Но у меня нет детей. Всю жизнь я сам был только сыном. Сара, почему ты никогда не хотела иметь детей?
– Ты просто хочешь быть подальше от меня.
– Нет, – соврал я. – Зачем мне это?
– Ты просто хочешь сбежать.
– Да нет же! – снова соврал я. – Зачем мне сбегать?
– Почему ты не говоришь мне правду?
Но я не сошел с ума, чтобы рассказать ей о Саре – о своем желании раствориться, начать все сначала, перевернуть весь Париж в поисках Сары – или о том, что я дважды пытался нанести визит семейству Волтес-Эпштейн, пока на третий раз отец и мать Сары не приняли меня и не сообщили очень вежливо, что их дочь по собственной воле уехала в Париж, потому что, по ее собственным словам, она хотела быть подальше от вас, вы причинили ей много горя. То есть вам должно быть понятно, что вы не особенно желанный гость в нашем доме.
189
Эуджен Косериу (более известен как Эухенио Косериу; 1921–2002) – румынский филолог, специалист по общему и романскому языкознанию. С 1963 г. – профессор Тюбингенского университета.