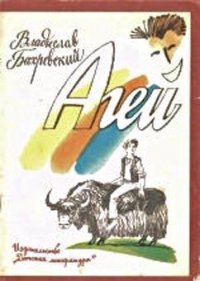Боярыня Морозова - Бахревский Владислав Анатольевич (мир бесплатных книг .TXT) 📗
Полоцк встретил Алексея Михайловича 31 октября. Древний город нравился царю, но затворился в комнатах. Не то чтобы смотреть на красоты – от еды воротило. Так ждал вестей из Вильны, хоть самому беги.
* * *
Договорную запись о приостановлении войны и об избрании Алексея Михайловича на будущем Варшавском сейме королем Польши московские послы – ближний боярин Никита Иванович Одоевский, окольничие Иван Иванович Лобанов-Ростовский, Василий Александрович Чоглоков – и польские комиссары – полоцкий воевода Ян Казимир Красинский, маршалок Великого княжества Литовского Криштоф Завиша и другой Завиша, виленский номинат-бискуп – подписали 24 октября. Посредничали в переговорах австрийские послы Аллегрети и Лорбах. Тут и вывалилось наружу все безобразное коварство иноземных радетелей России. Одоевский требовал от польской стороны уступить в пользу Московского царства княжество Литовское и уплатить военные издержки. Красинский настаивал на возвращении Речи Посполитой всех завоеваний и предъявлял счет убытков, понесенных Польшей за время войны. Аллегрети держал сторону поляков, а когда речь зашла об избрании Алексея Михайловича на польский престол, то объявил с гневом и страстью, что он слышать о том не хочет. У цесаря есть дети и братья одной с поляками веры. Они более приемлемы в польские короли, нежели московский царь.
Но Россия ликовала.
2 ноября в Спасо-Преображенском монастыре на торжественной службе игумен Богоявленского братского монастыря Игнатий Иевлич разразился блистательною речью во славу нового короля Польши. Но более всего из этой речи царю понравился перечень его новых титулов: «избранный король Польский, великий князь Литовский, Русский, Прусский, Жмудский, Мазовецкий, Инфляндский…»
Вся полоцкая шляхта была приглашена государем к его царскому столу. Тот стол смотрел воевода Матвей Васильевич Шереметев, осанкою превосходивший всех других сановников московских.
Уже на пути в Смоленск стали поступать вести о празднествах.
Первым, кто поспешил сообщить царю о молебствии за царский дом, был воевода Ордин-Нащокин. Он писал: «На славу твоей государева превысокия руки ратного строю и на страх противным, после молебна в Царевиче-Дмитриеве-граде стреляли изо всех ружей и изо всех пушек».
Патриарх Никон молился за царя, радовался его радостью в Вязьме. Тотчас и сам повеличался. Отправляя грамоту Каллисту, игумену морковскому, которого он назначил наместником полоцким и витебским, московский патриарх титуловал себя короче, чем царь, но весомее: «Никон, Божиею милостью святейший архиепископ царствующего града Москвы и всея Великия, Малыя и Белыя России и всея Северные страны и Поморий и многих государств патриарх».
Путешествовать по осенним грязям в карете было немыслимо. И для Никона в Твери соорудили особые сани, снаружи окованные железом и разукрашенные, изнутри обитые войлоком, утепленные овчинными и лисьими одеялами. Поезд патриарха, царевича и царицы состоял из сотни подвод, не считая карет и саней для царской семьи и боярынь.
Бог берег патриарха. Едва его поезд ушел из Твери, как на город пал смерч и выломал рубленого города на двадцать три сажени по подошву. Большинство крыш с домов, особенно соломенных, унесло и развеяло. В самую-то осеннюю непогодь.
Государь между тем поскакал, сколь было можно, навстречу семье и Москве.
20 ноября он добрался до Смоленска и сразу написал сестрам: «А скорее тово поспешить нельзя. Сами видите, какая по дороге расторопица стоит, и груда, и обломки».
Сон
Царица Мария Ильинична коротала долгий осенний вечер с боярыней Федосьей Прокопьевной. Они только что намылись в бане и, сидя у натопленной печи, расчесывали волосы. Печь была крыта новехонькими белыми, с изумрудными травами, изразцами. Те изразцы изготовляли в Иверском монастыре. Среди переселявшихся на Валдай белорусов был мещанин Игнат Максимов из города Кокеса. Едва он заикнулся о своем мастерстве, как тотчас был обласкан и приставлен к изразцовому делу. Ему сложили избу, поставили печи, какие он указал: трудись, богатей, лишь бы прок был от заведения.
– Не стану грешить, – сказала Мария Ильинична, – Никон – великий охотник строить. В прошлом году святейший населил Иверский монастырь белорусами, а ныне уж и до Вязьмы изразцы дошли. Как глаз-то ласкает печка. Свету от нее в комнате вдвое.
– Святейший куда ни придет, там и строит, – подхватила царицыно слово Федосья Прокопьевна. – На наших глазах поставили церковь в Зверинах. За две недели!
– За две с половиной, – поправила царица. – Ничего тут не скажешь – строитель. Четыре года в патриархах, а у него уж и Крестный монастырь стоит, и Иверский, и еще много чего удумано. Иерусалим собирается перенесть на Московскую землю.
Замолчала, торопливо разбирая волосы.
– Федосья! Гляди!
– Чего?
– Волос седой.
– Давай, государыня, выдеру!
– Выдери! Еще-то нет ли? Хороша я буду показаться Алексею Михайловичу в сединах! – Быстро покрестилась на иконы. – Господи, пошли скорую зиму, чтоб дорога-то легла какая следует.
– Заждалась! – вырвалось у Федосьи Прокопьевны.
– Заждалась! Сплю и горю! – Всплеснула руками, утонула в лавине тяжелых волос. – Вспомнила!
– Что с тобою, государыня?
– Сон нынешний вспомнила. Вчера странница про птицу феникс сказку сказывала. Вот и приснилось мне, будто сама я и есть птица феникс. Всю-то ночь, кажется, летала. То вверх, то вниз. Вверх лечу – смеюсь, вниз – обмираю. Между ног жмет! А хорошо, как на качелях. Федосья, вот бы тебе поглядеть! Уж такие несказанные перья у меня были, что там кумачи, атласы. Лечу, а вокруг меня светоярое облако. Еще вспомнила! Федосья, а я во сне-то моем – снеслась. Целое гнездо яиц наложила. Все белые, а три яйца, с краю, золотые… Утром заспала сон, а сейчас на изразцы гляжу, все и всплыло. Дай руку.
Приложила Федосьину руку к своей груди, и та услышала, как сильно бьется у царицы сердце.
– К чему бы это?
– К прибыли! Золото снится к прибыли.
– А знаешь, что я думаю! – И, взяв боярыню за голову, шепнула ей на ухо: – Трех царей я рожу.
И приложила палец к губам.
Федосья Прокопьевна, чтобы отвлечь царицу, принялась чесать ей волосы и вздохнула вдруг.
– Что так тяжело?
– Ванечку вспомнила. Сыночка. Я уж личико его забывать стала.
– Домой поезжай. Я тебя отпущу, – просто сказала Мария Ильинична.
– Матушка, царицушка! И полетела бы, но тебя-то как оставить? Ты тоже вся истосковалась. Оттого и волосок поседел.
– Со мною детки. Мне легче. Поезжай. Вот дожди перестанут. В грязищу много не наездишься. – И тут на лице Марии Ильиничны отразилось удивление. – Федосья! Я ведь еще вспомнила. Из трех золотых яиц разное вылупилось. Из одного – Петушок – Золотой гребешок. То не к слову сказалось. У него и впрямь гребешок был из литого золота. Тяжелехенький. А из другого яйца вышла кукла. Тряпичная кукла… Такая вся спустя рукава.
Царица примолкла.
– А из третьего? – спросила Федосья Прокопьевна.
– Из третьего… – Мария Ильинична печально и долго поглядела в окошко. – Из третьего золотого яйца вывелась птица феникс.
– О чем перед сном говорят, то и снится, – успокоила царицу Федосья Прокопьевна.
– Всю неделю буду поститься. Кроме кваса – ничего в рот не возьму. Даже корочки хлеба.
– И я с тобой, царица!
– Перед дорогой это хорошо, – согласилась Мария Ильинична. – Ты Богу послужишь, а Бог грязи поумерит.
Введение государь праздновал в Смоленске. Праздник совпал с прибытием Яна Корсака, присланного польскими комиссарами из Вильны сообщить московскому царю о его избрании королем Польским и великим князем Литовским. В своей речи пан Корсак налегал на то, что народ польский ждет от нового царя милости. Пусть он ради спокойствия своих будущих подданных прикажет отвести войска за реку Березину.
Приветствовал государя и посланец польного гетмана Великого княжества Литовского Винцентия Гонсевского.