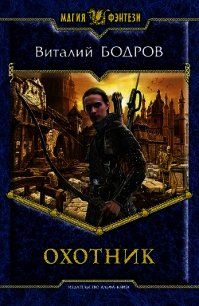Сердце – одинокий охотник - Маккалерс Карсон (книги бесплатно без TXT) 📗
Гарри присел на ступеньку и стал перевязывать шнурки на ботинках. Он затягивал их так туго, что один шнурок лопнул.
– К нам в кафе ходит один тип, некий Блаунт. Мистер Джейк Блаунт. Интересно слушать, что он говорит. Я очень много узнаю от него, пока он пьет пиво. Он меня натолкнул на кое-какие мысли.
– Я отлично его знаю. Он приходит сюда каждое воскресенье.
Гарри расшнуровал ботинок и подтянул лопнувший шнурок, чтобы снова завязать его бантиком.
– Послушай… – Он нервно потер очки о полу своей куртки. – Ты ему не говори, что я тебе сказал. Понимаешь, он вряд ли меня даже помнит. Со мной-то он не разговаривает. Он разговаривает только с мистером Сингером. Ему даже покажется странным, если ты… словом, сама понимаешь…
– Ладно… – Она поняла между строк, что он неравнодушен к мистеру Блаунту, а это чувство было ей знакомо. – Ничего не скажу.
Стало темно. На синем небе появилась белая, как молоко, луна. Похолодало. Было слышно, как Ральф, Джордж и Порция возятся на кухне. Огонь плиты отсвечивал в кухонном окне горячим оранжевым пятном. Пахло дымом и ужином.
– Знаешь, я об этом никому не говорил, – начал Гарри. – Даже самому противно подумать…
– Что?
– Ты помнишь, когда начала читать газеты и разбираться в том, что прочла?
– Ага.
– Я был фашистом, вернее, воображал, что я – фашист. Дело было вот как. Помнишь снимки в газетах, там еще такие ребята, как мы, в Европе маршируют, поют песни и ходят в ногу? Мне казалось, что это так замечательно. Все друг с другом связаны клятвой, и у всех у них один вождь. У всех одинаковые идеалы, и все шагают в ногу. Меня не интересовало, что там происходит с еврейским нацменьшинством, я просто не хотел об этом думать. Еще и потому, что в то время мне не хотелось считать себя евреем. Понимаешь, я ничего не знал. Я просто рассматривал картинки, читал подписи и ни черта не понимал. Понятия не имел, какой это ужас. Я думал, что я фашист. Конечно, потом я выяснил, что это такое.
В его словах слышалась злость на себя, и голос у него ломался – звучал то как у мужчины, то как у мальчишки.
– Но ты ведь еще не знал… – вставила она.
– Это ужасный грех. Моральное преступление.
Вот такой он человек. Все для него либо черное, либо белое, ничего посередке. Нельзя до двадцати лет притрагиваться к пиву или к вину и курить сигареты. Страшный грех жульничать на экзамене, но вовсе не грех списывать домашние уроки. Девчонкам безнравственно красить губы и носить платья с вырезом для загара. Ужасный грех покупать вещи с немецкими или японскими этикетками, пусть даже они стоят всего пять центов.
Она вспоминала, каким Гарри был в детстве. Вдруг он начал косить и косил целый год. Сидел на крылечке, зажав руки коленками, и смотрел, что творится вокруг. Молчаливый и косой. Он перескочил через два класса начальной школы и в одиннадцать лет подготовился к профессиональному училищу. Но там ребята прочли о еврее в «Айвенго» и стали его дразнить, а он уходил домой и плакал. Тогда мать забрала Гарри из школы. Он целый год просидел дома. Вырос и растолстел. Каждый раз, когда она лазила на забор, она видела, как он готовит себе на кухне что-нибудь поесть. Они с ним играли на улице, а иногда боролись. В детстве она любила драться с мальчишками – не по-всамделишному, а так, для интереса. Пробовала вперемежку приемы джиу-джитсу и бокса. Иногда Гарри удавалось ее повалить, иногда она клала его на обе лопатки. Гарри никогда не бесился. Когда малыши ломали игрушки, они приходили к нему, и он не жалел на них времени и все чинил. Он умел починить все на свете. Соседки вечно просили его починить то электричество, то швейную машинку. Потом, когда ему уже было тринадцать, он опять пошел в профессиональное и стал очень здорово учиться. Перестал покупать газеты, работал по субботам и без конца читал. Долгое время она видела его только изредка – до той вечеринки, которую она устроила. Он очень изменился.
– Видишь ли, – сказал Гарри, – раньше я всегда мечтал, что у меня будет большое будущее. Хотел стать знаменитым инженером, знаменитым врачом или адвокатом. А сейчас меня занимает совсем другое. Теперь я думаю только о том, что творится в мире. О фашизме, о тех ужасах, которые творятся в Европе. И наоборот – о демократии. Понимаешь, я больше не могу думать о том, кем я хочу стать, и добиваться этого, потому что я слишком много думаю о другом. Каждую ночь мне снится, что я убил Гитлера. И я сразу просыпаюсь, хотя еще совсем темно, и мне хочется пить и чего-то страшно, сам не знаю чего.
Она поглядела на Гарри, и ее захлестнуло такое глубокое, серьезное чувство, что ей сразу стало грустно. Волосы у него свисали на лоб. Верхняя губа тонкая, а нижняя пухлая и дрожит. Гарри выглядел моложе своих пятнадцати лет. С наступлением темноты задул холодный ветер. Он выл в ветках дубов на улице и хлопал ставнями о стены домов. Невдалеке миссис Уэллс звала домой Слюнтяя. Темные сумерки совсем нагнали на нее тоску. «Я хочу пианино… я хочу брать уроки музыки», – вертелось у нее в голове. Она поглядела на Гарри – он снова и снова переплетал свои худые пальцы. От него шел теплый мальчишеский запах.
Что ее на это толкнуло? Может, вспомнилось детство? Может, грусть вызвала этот странный порыв? Но она вдруг так двинула Гарри, что он чуть не слетел со ступенек.
– Катись ты… к своей бабушке! – заорала она ни с того ни с сего. И побежала. Соседские ребята всегда кричали эти слова, когда хотели затеять драку. Гарри встал, вид у него был растерянный. Он поправил на носу очки и секунду молча смотрел ей вслед. А потом кинулся бежать за ней по переулку.
Холод придал ей силы. Она захохотала, и эхо отозвалось коротко и часто. Она пихнула Гарри плечом, а он ее охватил. Хохоча, они стали бороться. Она была выше, зато руки у него были сильнее. Но дрался он неважнецки, и она его повалила. И тут он замер, а следом за ним притихла и она. Она чувствовала на шее его теплое дыхание: он, видно, притаился. Коленками она упиралась в его ребра и, сидя на нем верхом, слышала, как тяжело он дышит. Потом они разом поднялись на ноги. Теперь она уже не смеялась, и в переулке вдруг стало как-то очень тихо. Когда они возвращались назад через темный двор, она вдруг почувствовала себя как-то странно. В общем, непонятно было, что это за чувство, но так вдруг получилось. Она легонько его толкнула, и он толкнул ее в ответ. Тогда она опять засмеялась, и все прошло.
– Пока! – сказал Гарри. Он уже был слишком взрослый; чтобы лазать через заборы, и побежал по переулочку к своему парадному.
– Фу, какая жара! – сказала она. – Прямо задохнуться можно.
Порция грела ей в духовке ужин. Ральф заколотил ложкой по передку высокого стульчика. Джордж с отсутствующим видом подбирал овсянку зажатым в грязной ручонке куском хлеба. Мик наложила себе мяса с подливкой, овсяной каши, добавила изюму и все это перемешала. Она съела целых три тарелки, прикончила всю овсянку, но так и не наелась.
Весь день она думала о мистере Сингере и сразу после ужина пошла наверх. Когда она поднялась на третий этаж, она увидела, что дверь в его комнату открыта и там темно. На душе у нее сразу стало пусто.
Она не могла усидеть на месте, хотя ей надо было готовиться к контрольной по английскому. Какой-то избыток энергии мешал ей спокойно посидеть в комнате, как все люди. Казалось, что сейчас она порушит тут стены, а потом зашагает по улицам, громадная, как великанша.
В конце концов она вытащила из-под кровати заветную коробку, легла на ковер и стала просматривать свою тетрадь. Теперь в ней было уже около двадцати песен, но они ей не нравились. Вот если бы она могла написать симфонию! Для целого оркестра. Но как их пишут? Иногда ведь несколько инструментов играют одну и ту же ноту, поэтому нотные линейки должны быть очень широкими. Она начертила на большом листе бумаги для контрольной пять линеек, расстояние между ними было сантиметра по три. Когда нота предназначалась для скрипки, виолончели или флейты, она помечала рядом название инструмента. А когда все играли одну и ту же ноту, она ее окружала кружочком. Сверху она написала заглавными буквами: СИМФОНИЯ. А ниже – такими же – МИК КЕЛЛИ. Но дальше этого дело не пошло.