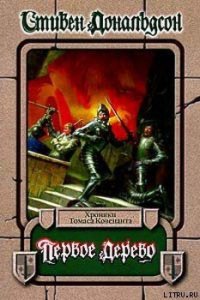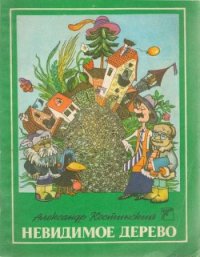Зверь дышит - Байтов Николай Владимирович (библиотека книг бесплатно без регистрации txt) 📗
Стоит нам уверовать в эту возможность, как широко задуманные метафизические заблуждения заменяются несравненно более наивными и робкими. Выявляет чёткую наблюдательную суть озадачивающего, но существенного аспекта квантовой физики: она нелокальна. И потому фотоны в эксперименте Аспекта не могут рассматриваться как независимые сущности… К сожалению, прерывается мысль на ночь. Иногда она приходит новая. Тоже ночью. Но это бывает редко.
За обедом звонит гонг. Иззырэнибоди гоинг? — Ой, ненавижу этих котят мяукающих! Пётр Первый, осматривая парижский Дом инвалидов в то время, как почтенные воины сидели за обедом, налил себе рюмку вина и, сказав: «Ваше здоровье, товарищи!» — выпил до капли. А я, господа, уверен, что Павел Первый сделал бы то же самое. Или почти то же. — То есть выпил бы почти до капли? Нет, это брось. — Десять? Пора ехать. Огромный стол в обыкновенном петербургском столярном вкусе. Олхоня-художник засадил дырки в очки. А во-вторых, бить его не за что. То, что он мудак, — не вина его, а беда. Ну и что? Люди живут, несмотря на то что даже не знают, кто говорит сейчас с ними. Андрюша Зублов, итальянский художник. Вот с этим рисовальщиком сейчас никто не сравнится. Десять, говоришь? И тут мне стало не до смеха. Если просто произнести слово «антрополог», то уже станет смешно. Однако поступали так: брали чёрный хлеб немного и отряхивали электрической силой. И грибочков туда, грибков, да?
Свинушки — в смысле, всякое это дуньё — подложили нам свинью: пока мы шли, они скисли в корзинке. А сухопейки вообще зачервивели с ножек. Рисуешь пейзаж — рисуй антураж. Энтузиазм вспых и погаснул. Хануткина одежда — позорище. А сама она — торжище. Это про неё он сказал — «богемная бабина»? Вот уж глупость! «Законченная деревенщина». Как это может быть? Либо тонкий оксюморон, либо вовсе неряшливое, тупое словоупотребление. Ведь деревенщина — это начальное состояние, не конечное.
Эти упражнения вскоре переходят в словесную плоскость. Основой их становится искусство каламбура, подменяющее собою мысль. Ассонансы между терминами, созвучия и двусмысленности. Постепенно всё это превращается в исходный материал для спекулятивного театрального действия (спектакля). И то, насколько эти каламбуры удачны, является критерием ценности философского труда.
Его спросили в интервью: «А отрицалово вас уважало?» — «Я не видел, — говорит, — в своей жизни никакого настоящего отрицалова, кроме себя самого. Поэтому вопрос скорее не в том, уважал ли кто-нибудь меня, а наоборот: уважал ли я кого-нибудь?»
Стихотворение «Рондо» посвящено Рындиной. Ну и дурак. А может, он нарочно? Да вряд ли. Это жена Ходасевича, что ли, первая? Мария Эрастовна? — Однако чего не знаю, того не знаю… — Хорошо, ладно, понял, а то я сейчас в электричке еду. Забыл сказать: мы же теперь всегда ездим до Северянина. А ты не знал? Давно уже.
Нестерпимым блеском моей бессмертной души. — Ну прямо Маяковский! Нет, это всё-таки больше «эго-». Только как это «надраит блеском»? Блеском будет тереть? Да, это ляпсус. Как он сказал — «странного» или «сраного»? — «Сраного», увы. «Все улицы этого сраного города». — Да, увы. «Странного» звучало бы интересней. Он учился у Певзнера, но не поспевал за ним. Певзнер слишком стремителен. — Успешный официоз претендует на неангажированное пространство. Захватывает, пожирает? — Нет, это другое. И в этом медленном скольжении. И в остановках при движении. Ни полнамёка на сближение. Ни поворота головой. — Нет, это неправильно. Он переделал, а я помню так, как было.
Другого дела нет у стихов, как запоминаться. Влезать в сознание. Проедать его, как червь. Это единственная их задача, чем бы там они ни прикидывались. Поэтому поэту осточертело писать стихи. Мальчик с гармошкой, а ты не боишься, что тебя убьют когда-нибудь и выкинут из вагона под насыпь, если ты будешь влезать в сознание пассажиров? — Я ещё маленький. А ты, дядя, не боишься, что тебя убьёт кто-нибудь из твоих читателей? — Я органист, я тоже маленький… Экий ты, мальчик. Я же не Леннон, котёнок мяукающий. Однако боюсь. Всё-таки я постараюсь писать по-другому и исчезнуть как-нибудь так, чтобы никто меня не помнил. — Ну и дурак. Всю жизнь будешь нищим. И дети твои ничего от твоих стихов не поимеют. Будешь ходить — побираться. — Извини, но так, как ты, я ходить не буду. Ем гречневую кашу — с меня довольно. И всё же я озабочен: не слишком ли назойливо мои стихи звучат? Не хотелось бы. Постараюсь сменить регистр. Кто знает, что у меня на уме? Я сам не знаю. Нет, ну я не буду домогаться кого-то. По крайней мере, я так думаю.
Он нацелился в зал… и нажал басовый регистр. Чем нацелился? — токкатою Баха. Я так не могу, мне Бах вовсе чужд. И я не знаю, чем мне нацелиться в зал. Фактурою Бродского сейчас сыграй? — Дожили, поздравляю. Поздравь сам себя. — Не с чем. Я Бродским никогда ни в чём как бы. Не грешил. «Споём старика Анчарова», — сказал Яша Хейфец. И запел. Без гитары. Я органист, я тоже маленький. Почему тоже? Разве он был органист, а не скрипач? Так это когда было! В девятом классе. Кто его помнит сейчас, Анчарова этого? Яша, должно быть, ещё жив. Наверняка помнит.
Если это пророчество, оно должно быть, так, — размыто больше… А с другой стороны, миллионы людей, верующих в религиозные рясы. Что с ними делать?
Купи попугая. — Не покупай попугая.
Не погуби, покупая. Вряд ли он будет называть вещи.
Глядя одним глазом, попугай молча вытягивает билетик. Проще не бывало экзамена. Кто-то и тебя потом с шарманкою сравнит, в которой что-то.
Вместо тоста трезвости не пожалейте. Два слова в алаверды. Ты знаешь, что тост — он сбивает разговор, сбивает тебя самого с мысли. Нет, у меня ничего не осталось. Шампанское, налитое в фаянсовую чашку, — пузырьки вышли сразу же. Пишу наотмашь. Надоело палиндромничать. Что за игрушки? Детский сад какой-то, честное слово. Опять Гера зачеркнул свой ЖЖ, а недели через две, гляди, снова вернулся. А куда денешься в конечном итоге? Ходить по путям в неустановленных местах в нетрезвом виде.
Вы знаете, сколько препятствий встанет на Вашем пути, если Вы пожелаете их осуществить. Пуаро ответил холодно: — Я никогда не ошибаюсь. Его собеседник рассмеялся, а Пуаро продолжал.
Ну вот, время подходит, а ничего не произошло. Этого следовало ожидать с самого начала. А разве ты ждала чего-то другого? Экстраординарности? — Ну, да, я всегда жду этого, чего ты сказал. В общем-то. И ведь происходит, — будешь спорить? — Да нет. На самом деле произошло очень многое. Даже на десятую, даже на сотую долю не передано, насколько всё здесь было напичкано, понатыкано всякими событиями.
А растолковывать каждую мелочь совершенно нет возможности. — Почему это за кокетство завязки и неожиданность кульминации должен отдуваться несчастный финал, в котором и так каждая строка на вес золота?
Жаль только, что ещё много мелочей осталось, которые не успеваешь. Мелочей, драгоценных сердцу. Это уж всегда так: хочется в последний момент и того, и сего. Хотя на самом деле какая разница?.. Вот поэтому фокусировка, видимо, и нарастает. Нет чтоб отдалиться и взглянуть в целом, как на импрессионистическое полотно. Так ведь для этого нужно быть вне. Художнику легче, чем литератору: сделал несколько шагов назад — и смотрит.
Всё тише в пульсе я считаю маятник. В груди конвульсии и счастью памятник. Да ладно тебе. Как ноги? Ноги мои пришли в упадок. А я ждала Анатольевну с палкой. Сижу — её нет. Нет — я пошла.
Деревня Лютивли. — Мы родились и выросли. — А две сестрички Нероновы с того конца? — Нет, они уезжали. Они уезжали и долго не жили. А мы — как камни.
Ну и зря. Толстой, что ли, не любил слова «зря»? Или другой кто? Я тоже многие слова не люблю. Сейчас не могу припомнить. Ещё чего-то он не любил. Кажется, «парень».
Долби воздух. Такому маленькому костру может очень многое сделаться от такого маленького дождя. С того конца. [Лис укусил]. Водобоязнь. Умри в рифму. — Вот именно: если бы поменять имена некоторым предметам, то и умирать не надо. Можно было бы ещё пожить. Так порой думается.

![Дерево бодхі. Повернення придурків [Романи] - Яценко Петро (книги онлайн полностью .txt) 📗](/uploads/posts/books/51649/51649.jpg)