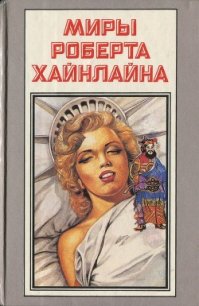Зимой в Афганистане (Рассказы) - Ермаков Олег (мир книг .TXT) 📗
Он прекрасно помнил всё, все звуки, голоса, движения. Помнил, как землю под ним пробрала дрожь, как хрустнуло дерево ворот и щепки ударили в лицо, как они бегали по сумеречным комнатам дома, как кто-то из пехоты предложил проверить женщин под чадрами, может, у них усатые морды? И то, как он устал стрелять по окнам соседнего дома, а потом увидел во дворе горбоносого мужчину с поднятыми руками, и парня, и Салихова, и пехотинца... Все-таки интересно, как им удалось провернуть это дело? Интересно?.. Какая теперь разница!.. Плевать.
Он влепил короткую очередь в широкую грудь горбоносого, и тот упал, повыгибался на земле, выдувая носом алые пузыри, и замер.
...Но Медведев же умер по дороге в полк! Ведь он умер? Так и нечего...
А Опарин? Кто бы мог подумать. Ну кто бы мог подумать?..
Костомыгин думал об Опарине. Он ненавидел Опарина. Вспоминал, как, оглянувшись, увидел его потное, красное, трусливое лицо с выпученными глазами, и стонал от отвращения и ненависти.
«Он это из трусости не сделал. Он трус. Он трус», — повторял Костомыгин, но легче от этого не становилось.
Опарин не выстрелил. Шварев грозил ему, кричал на него, но Опарин не выстрелил. Что ему стоило нажать на курок, ну что ему стоило? Он обливался слезами и просил отпустить его. Отпустить? Куда? Домой к мамаше? Он совсем чокнулся, он истекал слезами и просил, чтобы его отпустили... Боже, что с ним будет в полку!
«Какая мне разница, что будет с этим слизняком! К черту его. Он трус, обыкновенный трус, и нечего о нем думать. Вот Салихов...» — думал Костомыгин, затягиваясь сигаретой. Он накурился уже до тошноты и едва сдерживался, чтобы не стравить, но доставал из пачки новую сигарету и прикуривал. «Вот Салихов... Неужели там был еще и Салихов?» — спрашивал себя Костомыгин, морщась.
Но в тесном дворике был и Салихов. Это же он вместе с пехотинцем захватил мятежников, долбивших из пулемета.
Да, там был и Салихов. И когда Салихов понял, что Опарин не будет стрелять, что Опарин скорее сам застрелится, чем будет стрелять, когда он это понял, он подошел к парню, который все не отнимал от лица свою растрепанную грязную чалму, и убил его рукой. Он убил его пустой рукой, и это никого не удивило. Он это так быстро сделал, что можно было подумать, будто парень умер своей смертью, — вдруг остановилось сердце, и он замертво упал.
Костомыгина трясло на ящиках со снарядами, он затягивался сигаретой, и ему не хотелось умирать черт знает когда, через тысячу лет. Ему хотелось, чтобы сердце остановилось сейчас. Но оно не останавливалось.
Желтая гора
Было сухо, тепло и желто. Тело было легкое. Странная женщина, вросшая в землю, кормила его с рук красными ягодами. Белый пушистый ком прижимался к щеке, теплый, тяжелый ком.
И раздался взрыв.
Прядильников закричал и проснулся. Он сел в постели, протер глаза, огляделся и понял, что он спал в своей однокомнатной квартире и что его разбудил трезвон будильника. Он потянулся, опустил ноги на пол, прошел к столу, включил магнитофон. По утрам он слушал рок. И в это утро он слушал рок. Это бодрило, как крепкий индийский чай или густой бразильский кофе. Прядильников раздвинул шторы. На улице было солнечно. Стояла ранняя теплая русская осень.
Прядильников прошел босиком в туалет, потом в ванную. Умывшись, он пошел в кухню, достал из холодильника три яйца, зажег газ под чайником и под сковородкой. Сковородка нагрелась, он опустил в нее кусок сливочного масла, масло быстро растопилось, и в желтую пенную лужицу выскользнули три яйца, выпуклых, бледно-желтых, подернутых прозрачной слизью.
Оставаясь в одних трусах, Прядильников сел за стол, съел яичницу, три бутерброда и выпил две чашки рубинового горького чая. Позавтракав, он вернулся в комнату, взял пепельницу, спички, сигареты и лег в постель, треснул спичкой, прикурил.
Над лицом вились сизые чубы и локоны.
Рок рокотал: эй, пойдем с нами, у нас все просто, черное — черное, белое — белое, лучше лежать на поляне с подругой и банкой пива, чем играть в игры взрослых идиотов, лучше быть нищим, но никому не врать, никому не подчиняться и никем не повелевать, мы советуем тебе любить себя, подругу и пиво и не мешать остальным делать то же, это лучше, чем рассуждать о любви ко всему человечеству, требовать, чтобы все друг друга любили, не любя себя, чтобы превыше всего ставили идею и долг, — это лучше, чем требовать, рассуждать, заставлять и время от времени устраивать резню ради торжества своих человеколюбивых идей, ты не верь, нет, не верь, никому, никогда, ничему, дружище, не верь.
Никотин и рок растворялись в крови, Прядильников балдел.
Ты не верь, нет, не верь...
Настроение было что надо. Оно редко бывало хорошим. Этакая вечно надутая цаца. Все ей не так. А сегодня все так. С чего бы?
Кажется, приснилось что-то?
Да, вроде бы.
Надо вспомнить. Но — потом, потом. Сейчас — рок.
Прядильников посмотрел на часы. Пора. Он встал, надел джинсы, черный свитер и замшевые легкие туфли. Погляделся в зеркало. Ничего. Посвежел. Прихрамывая, Прядильников вышел из квартиры.
У подъезда стоял его «броневик» — «Запорожец» песочного цвета. Прядильников протер тряпкой затуманенные стекла, сел, повернул ключ зажигания, прогрел мотор, включил первую скорость, тронулся. «Броневик» проплутал по каменным лабиринтам, выбрался на широкую улицу и заскользил мимо остановок и толп, магазинов и ресторанов. Прядильников включил приемник, покрутил колесико настройки и нарвался на рок. Рок рокотал все то же: если ты не успел свихнуться от речей и призывов пузачей в цилиндрах, иди к нам, мы никуда не идем, потому что некуда идти, и мы не врем, что куда-то идем и в конце концов придем, мы топчемся на месте, и нам наплевать, кто ты — красный или черный, левый или правый, христианин или буддист, безбожник или анархист, ты человек, и этого достаточно, и этим все сказано, ты пришел к нам, значит, ты устал от человеколюбивых басен, написанных твоей и моей кровью, пускай они проламывают друг другу цилиндры и головы, а мы будем смотреть на солнце, целовать подруг и слушать рок, нас объединяющий рок, нашу идеологию и религию — рок!
«Хорошо, — подумал Прядильников. — Только наивно, ребята. Дяди в цилиндрах вдруг поругаются, обзовут друг друга козлами и пришлют вам повестки. И никуда вы не денетесь, пойдете защищать честь цилиндров и выпускать кишки братьям во Роке».
Он въехал на стоянку, подумав, что сегодня нужно было не сюда приехать, поставил свой броневик рядом с черными и серыми «Волгами» и захромал к парадному входу дома с колоннами. «Не туда приехал», — опять подумалось.
В здание входили степенные мужчины в костюмах и при галстуках, они чинно кивали и подавали друг другу мягкие белые руки; входили и женщины, одетые на один лад — а-ля Железная Леди из Лондона.
В доме с колоннами, на четвертом этаже, под крылом и неусыпным оком областных властей находились редакции двух газет, партийной и молодежной.
Сотрудником последней и был хромоногий прокуренный худосочный молодой человек по фамилии Прядильников. Уже год он приходил в этот дом каждое утро. Пора бы привыкнуть. Но не привыкалось как-то. И в это утро, оказавшись в просторном вестибюле с зеркалами, автоматами для чистки штиблет и двумя милиционерами за столиком с черными и белыми телефонами, Прядильников почувствовал неловкость, как если бы он незваным гостем заявился на пир, к тому же на пир иностранцев. Он прошел мимо милиционеров, глядя в сторону. Так и не научился барски кивать им, а братски — не мог.
Здесь было два лифта, один отвозил тех, чьи кабинеты были в правом крыле, другой — левокрылых кабинетчиков. Ему нужно было налево, но среди левокрылых он увидел знакомое круглое лицо и повернул направо. Ну его, этого Завсепеча. Прилипала. Он заведующий сектором печати, под его контролем пресса всей области. Начинал партсекретарем в колхозе «Двадцать лет без урожая» или как там. Теперь — Завсепеч.