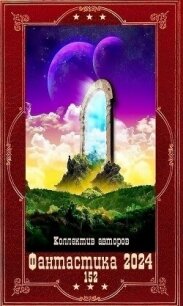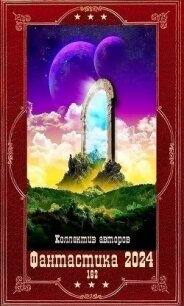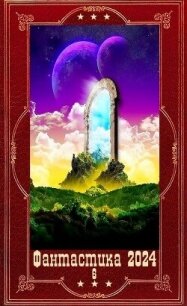Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT, FB2) 📗
Завтрак мой неизменен: хлопья “спешиал кей” с молоком, слоеная булочка, с которой меньше возни, чем с тостом, чашка кофе и в последнюю очередь, потому что я плохо переношу кислое на пустой желудок, стакан апельсинового сока.
В семь утра повсюду здесь тишина – в доме, во дворе, на поросших сосной холмах. Автомагистраль слышна, но ее шум вряд ли громче звенящего шороха миллионов сосновых игл под легким ветром. Я качусь к двери, а оттуда на веранду, которую бабушка называла пьяццей. Эд возродил розарий, хотя он, конечно, уступает дедушкиному. Розарий, подстриженная лужайка и сосны за ней смотрят на меня вместе, как старая фотография, выхваченная из череды былых секунд. Все выглядит так, как выглядело в моем отрочестве, когда я приезжал из школы на лето. Глаза мои не переменились, мальчик из Школы святого Павла [83] по‑прежнему тут. Жалко мне его, заточенного в шестьдесят без малого лет жизни, прикованного к креслу, посаженного в клетку искалеченного и окостеневшего тела. На мгновение по знакомой с давних пор картине пробегает жидкая блестящая дрожь: узник негодует на свою решетку. Легче легкого было бы поставить точку.
Такие моменты у меня бывают, хоть и не часто. Ничего с этим не поделаешь, только сидеть и ждать, пока пройдет. Припадки и расстроенные чувства мне ни к чему, нужна выдержка. Я обнаружил, что можно даже некое удовольствие извлекать из подчинения необходимости. Вытерпел то, вытерплю и это.
Солнце слепит из‑за сосен беглыми вспышками. Лучи пробиваются сквозь хвою и блестят на мокрой траве. Чернобровые овсянки скачут и что‑то клюют сред роз; дрозд на лужайке наклоняет голову набок, прислушиваясь к подземному шороху червя; на верхушку сосны, сотрясая ее, с размаху опускается сойка. Слышно, как по магистрали едет дизельный грузовик, понижая передачу по мере того, как уклон делается круче. Каждая следующая передача – звук ниже, тяжелей и натужней. Эффект Доплера? Не совсем. Так или иначе, мне больше нравятся подобные звуки при повышении, а не понижении передачи в этой паутине шестеренок. При понижении они слишком меня самого напоминают.
Зажигаю на свежем воздухе первую за день сигару, спичка ломается. Мое кресло – тряпично-бумажное гнездо, как минимум так же легко способное воспламениться, как обочины калифорнийских дорог. Затем вкатываюсь в дом, дверь оставляю открытой для Ады, фиксируюсь в лифте и плыву в верхний коридор, где больше воздуха и света. Отцепившись и повернувшись, вижу дверь кабинета и окна за ней и в коридоре, вижу подвижные кроны сосен за окнами, письменный стол в ожидании со стопками книг, с папками, полными бумаг и фотографий, – нечто похожее на родной дом, на жизнь, на предназначение.
Испытывают ли волки-оборотни это облегчение, это чувство безопасности, возвращаясь на рассвете в какое‑нибудь заемное тело?
Мои утра принадлежат мне мирно и безраздельно, если не считать небольшого перерыва на разговор с Адой, когда она приходит застелить мою постель, вымыть посуду и приготовить мне ланч. Если играют “Джайентс”, я ем на веранде, слушая бейсбол по радио. После ланча полчаса лежу, скорее ради перемены положения, чем ради дневного сна. Между часом и половиной второго – она не пунктуальна по части времени – появляется Шелли, и мы час-другой занимаемся проблемами, которые встретились мне за утро. В три, отправив ее печатать, что нужно, и готовить бумаги, которые понадобятся мне следующим утром, спускаюсь в сад для моих ежедневных крестных мук на костылях. И даже тут, поскольку накладываю это на себя сам, я могу находить некое кальвинистское удовольствие.
Все, с чем я здесь связан, безопасно, надежно и правильно. Единственное вторжение я допустил сам, наняв Шелли, а с ней пришли все ее неопрятные сложности. Он убрался, хвала Господу, только раз мне показался на глаза, как Питер Квинт [84], проходя вдоль моей территории, но не заходя внутрь, только заглядывая и никак определенно мне не угрожая. Чем я мог его заинтересовать? Да ничем. Если он, как я предполагаю, болтался вокруг, соображая, как оставить людоедские следы, чтобы навести страх на Шелли, то я для него ничто, просто увечный старый хрен, которому принадлежит дом. Я поднял глаза посреди своих ковыляний, и вот он за забором – жиденькая аскетическая бороденка, на голове лента с бусинами, лиловые штаны, мокасины до колен, не крадется, не прячется, просто идет вдоль забора прогулочным шагом, заложив руки за спину. Я продолжаю свои труды, бреду, шатаюсь, заставляю себя одолевать, не помню, пятый, шестой или седьмой отрезок, и мы разминулись, как случайные прохожие на улице. Он дружелюбно на меня посмотрел и мотнул головой в знак похвалы тому, чем мы пользовались вместе. “Отличная погода, – сказал он. – Отличное место”. И двинулся себе дальше между сосен. Чей лес, мне кажется, я знаю [85], и нет, он не его.
Шелли к тому времени переселилась обратно к родителям. Решила, как я предположил, что его уже тут нет, поэтому я сообщил ей, что он еще здесь.
– Я знаю, – сказала она. – Я его видела.
– Видели?
– Да, два раза.
– То есть разговаривали с ним.
– Да.
– Все было нормально?
– Более-менее. Я к нему не возвращаюсь, но он ничего.
– Вы родителям сказали?
– Зачем? Они бы только завелись и попытались добиться, чтобы его арестовали или еще что.
– Почему он тут болтается? Все еще старается вас уговорить?
– Нравится ему здесь. – Она откинула волосы назад и испустила свое хо-хо-хо. – Вот фигня, скажите. Полюбил эти места. Почему, спрашивает, ты мне не рассказывала про Грасс-Вэлли? Это ведь место, это не “где‑то там, где угодно”. Тут, говорит, можно жить. Он может прямо тут и обосноваться. Классно будет, да?
– Будет, по‑вашему?
– Нет, – сказала она. – Это он меня так донимает. Раз не гора к Магомету, то Магомет к горе. Это пройдет. Вернется туда, где жизнь кипит. Тут ему делать нечего.
Она в нем не ошиблась, он уехал. Но от идеи оставлять людоедские следы не отказался, как видно из вчерашнего.
Я был на пьяцце, перебирался обратно в свое кресло после дневного отдыха, и тут на дорожке показался автофургон – служба доставки. Водитель выскочил с планшетом в руке и стал подниматься по ступенькам. Он увидел меня еще до того, как позвонил в дверь.
– Получатель – Расмуссен, – сказал он. – Для передачи через Хокса.
– Вы не на ту дорожку поехали, вам нужна следующая, – сказал я. – Что там у вас? Миссис Расмуссен у меня работает, она придет с минуты на минуту.
– Канарейки, – ответил водитель.
– Канарейки?
– Двадцать четыре канарейки.
И тут за его спиной, повернув из‑за угла, показалась Шелли.
– Привет, – сказала она. – Что тут у вас такое?
– Он говорит, у него для вас двадцать четыре канарейки.
– Что?
– Не смотрите на меня так, – сказал водитель. – Я доставка, и только. Двадцать четыре канарейки из “Эмпориума” [86]. Куда мне их?
– Никуда, – ответила Шелли. – Это шутка какая‑то чертова.
Она подошла к фургону и заглянула внутрь. Водитель открыл заднюю дверь и достал нетяжелую, завернутую в бумагу посылку в пять футов высотой и в три шириной и толщиной. Он стащил бумагу – и вот вам пожалуйста. Со своего кресла над пандусом мне показалось, что в клетке из деревянных прутьев их больше двух дюжин.
– Кто это послал? – спросила Шелли.
– “Эмпориум”.
– Дайте на вашу бумагу посмотреть.
Он протянул ей планшет. Тем временем канарейки на свету начали трещать и щебетать.
– Ну да, это он, сучонок, – сказала Шелли, отдавая водителю планшет. – Везите обратно, это шуточки у него такие поганые [87].
– Черт, даже не знаю…
– Везите обратно, – повторила она. – Я позвоню в “Эмпориум” и все им объясню.