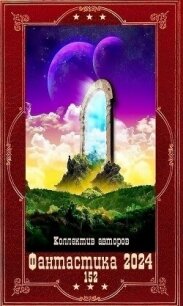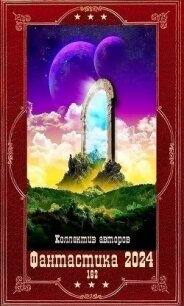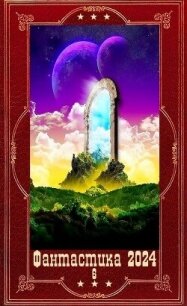Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT, FB2) 📗
Все это складывалось у нее в голове, как строки знакомого стихотворения: непритязательная комната ожидания, извозчик, которого она знает, сельская гостиница, где она сможет первый раз за неделю искупать ребенка и помыться сама. Доверительным шепотом она рассказывала Олли, как покажет ему по пути к парому цветущие яблони, как познакомит его с паромщиком, отцом Хауи Дрю. На пристани в Нью-Полце они оставят багаж, чтобы Джон потом приехал за ним в коляске, и отправятся пешком по дорожке, идущей через ее детство, между полей, знакомых с тех пор, как она научилась ходить. Пусть он вдохнет запах отягощенных росой хвойных деревьев в лощине, пусть посмотрит на деловитых птичек в кронах, на бурундучков в выбоинах каменных оград. Они остановятся взглянуть на кизил, протягивающий ветки из зарослей, словно чтобы удивить прохожего.
Но их поезд, опоздавший из‑за повсеместного половодья, добрался до Покипси только в четыре утра. Сюзан настаивала, чтобы ее спутники легли спать, но Конрада уговорить не смогла, и он бодрствовал с ней. Он хотел, чтобы она доехала с ними до Нью-Йорка, остановилась там в гостинице и отправилась домой отдохнувшая на следующий день, но она отказалась. Сделала знак проводнику, чтобы спустил ее вещи, отвела удерживающую руку Конрада и сошла с Олли на перрон. Над дверью начальника станции горел фонарь, в комнате ожидания – лампа, но кругом ни души. Конрад был огорчен.
– Спасибо! – бодро крикнула Сюзан. – Спасибо вам за все, вы были так добры! Не беспокойтесь за меня. Я тут все знаю, я, считайте, дома.
Фонарь тормозного кондуктора описал дугу в хвосте темного поезда. Проводник ждал. Взбудораженный сильней, чем она когда‑либо видела, Конрад вскочил на площадку, проводник поднял в вагон свою лесенку и влез сам, поезд дернулся, лязгнул и двинулся. Она махала, стоя среди багажа и отклонившись назад из‑за веса ребенка, затем повернулась и увидела, что одна.
У начальника станции окна были темные. Извозчика не найти. Комната ожидания была открыта, пуста, в ней стоял полумрак, печка остыла. Сюзан положила ребенка на скамью и подоткнула одеяло, чтобы он не скатился. Потом, пошатываясь от тяжести, перенесла вещи в комнату ожидания и села около Олли. Часы показывали четырнадцать минут пятого. Она бы легла, но мешали железные частые подлокотники скамей. Ее глаза были воспалены, ум притуплен, ступни коченели. Ее пробирала дрожь, она задремывала сидя. Дóма – да не совсем.
В шесть утра пришла буфетчица, увидела ее, расчувствовалась и захлопотала. Зажгла печку, приготовила чай, согрела молока для ребенка. В семь появился старый мистер Тредуэлл, который возил тут людей еще в ту пору, когда Сюзан училась в здешней частной школе для девочек, и доставил ее в гостиницу. Но она была слишком уже близка к цели, чтобы брать номер и ложиться спать. Она что‑то съела, дала Олли овсянки и размоченный тост, обтерла его, умыла себе лицо и руки. В восемь тридцать они отправились к парому, без четверти девять погрузились. Одно нехорошо – мистер Дрю умер. Она‑то рассчитывала поговорить с ним про Хауи и, стало быть, про Запад. Почувствовала себя обманутой: готовилась непринужденно рассказывать зачарованным слушателям о своем западном житье-бытье.
Приближалась пристань в Нью-Полце, паром пересекал наискось высокую весеннюю воду. В девять тридцать фермер, их сосед, который привез яйца к парому для продажи на рынке, высадил ее у отцовской двери.
Как на всех картинах в традиции Американского Коттеджа, над трубой вился уютный дымок. Под верандой зацветали крокусы и мускари, обвивавший ее кампсис зеленел такой свежей новенькой зеленью, какой, казалось, не было до сих пор среди красок. За этой листвой сколько же летних вечеров она просидела допоздна со старой компанией из “Скрибнера”! Внутри были знакомые комнаты, старое дерево, истертое и отполированное милыми пальцами.
Уставшая до смерти, не чуя под собой ног, с глазами, полными слез, с ребенком на руках, с разболевшейся от его тяжести спиной она поднялась на две ступеньки. Дверь открылась, и выглянула ее мать.
Мне трудно сказать о бабушкиных родителях что‑либо внятное. Они слишком далеко от меня отстоят, мне не хватает ориентиров в их мире. Это были добрые, любящие, стареющие квакеры, люди простые, но отнюдь не простоватые. Скорее всего, они считали свою дочь невероятно даровитой и предприимчивой. Я не вижу их как личности, я воспринимаю их стереотипно: пара седых характерных актеров в больших круглых очках. Согласимся на типовую встречу родных: тесные объятия, мокрые от слез поцелуи, восклицания, запах фиалкового корня от прабабушкиных волос, быстрые шаги Бесси из кухни – да, она тоже здесь! – и попытки докричаться до хлева, позвать отца. Сюзан дома.
Апрельское солнце светило через сетчатые занавески, запах цветущих яблонь, Сюзан казалось, проходил даже сквозь забитые от плача ноздри. Столько слов, столько смеха, столько растроганных похвал ребенку, столько теплых минут его знакомства с двумя детьми Бесси, что только через час, когда они в некоем изнеможении сидели за кухонным столом перед опустевшими чайными чашками, Сюзан вспомнила:
– Огасты, вот кого не хватает! Можно ее пригласить, мама? У нас есть комната?
– Душа моя, разве ты не знаешь? Она тебе не написала?
– О чем?
– Нет, навряд ли она стала туда тебе писать, ты раньше того уехала из Санта-Круза. Наверху лежит от нее письмо, прочти, душа моя.
– Но что случилось? Где она?
– Томас сильно занемог, надорвался, – ответила ее мать. – Врачи сказали, если хочет поправиться, надо год отдыхать, а то и больше. Огаста на той неделе уплыла с ним в Европу.
28 мая на моем календаре. Короткая и яростная в этих предгорьях весна позади, я глазом не успел моргнуть, как настало лето. Дикие цветы вдоль забора высохли, дикий овес из зеленого сделался золотым, в прогалинах между сосен уже потух кровавый багрянец иудина дерева, глициния и плодовые деревья в саду отцвели. Теперь до самых ноябрьских дождей дни будут до того одинаковые, что только субботний бейсбол даст мне возможность отличать будни от выходных. Да и зачем? Мое здешнее лето в мальчишеские годы было наркозом. Я очень надеюсь, что так будет и сейчас.
Я глубоко погружен в диктуемую волей рутину. Со стороны, думаю, я похож на опустевший дом, где оставили гореть только один невразумительный ночник. Любой грабитель может заглянуть в щель между моими занавесками и заключить, что внутри у меня никого. Но он ошибется. Да, под этим одиноким светом не видно ни движения, ни пробегающей тени, но работа под ним идет, мужская работа, а пока я за работой, я не кандидат ни в Менло-Парк, ни в больницу для неизлечимых, которая издевательски зовется “для выздоравливающих”, ни в сосновый ящик. Мои привычки и постоянство здешней погоды поддерживают меня. Зло есть все то, что задает лишние вопросы и нарушает порядок.
Привычка – моя верная, моя законная супруга. Каждое утро, облегчив потягиваниями худшие из болей и приняв первые таблетки аспирина, я хватаюсь за столбик кровати и перемещаюсь в кресло, очень осторожно, любой удар или сотрясение может запустить реакцию боли. Еду к лифту и спускаюсь вниз. По радио, пока тарахтит к остановке на красный свет электрический кофейник, слушаю про то, как в Сан-Хосе бездомные собаки загрызли ребенка, как в Норт-Биче конфисковали сто фунтов марихуаны, как в Дейли-Сити чернокожие разогнали собрание школьного совета, как в Окленде после ссоры в баре муж застрелил жену, слушаю про последние университетские волнения, про вчерашний счет во Вьетнаме. Слежу с вертолета за транспортными потоками на уклоне Уолдо, на мосту через залив, на Бэйшор-фривей, на развязке Алемани. От синоптика узнаю, что сегодня (опять) будет ясно, у побережья утром местами туман, ветер северо-западный от пяти до пятнадцати миль в час, температура в Сан-Франциско от 65 до 70 по Фаренгейту, в Санта-Розе от 80 до 85, в Сан-Хосе от 85 до 90. Значит, здесь от 90 до 95. В темной, обшарпанной старой кухне, когда я завтракаю, всего 67, и я набрасываю на плечи свитер, который Ада всегда оставляет на спинке моего стула.