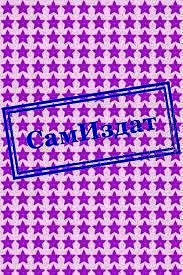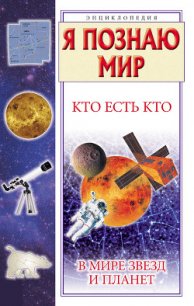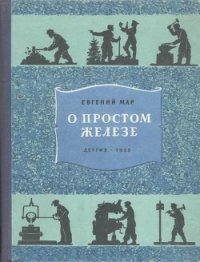Из чего только сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки (антология) - Фрай Макс (читать книги онлайн без .TXT) 📗
- Что это?! – испуганно выпалила Галка.
Владимир Осипович сипло рассмеялся, и ей, никогда прежде не слышавшей его смеха, стало окончательно жутко.
- А это, Галочка, Лидия Петровна, супруга моя. Уйти от меня, знаешь, собралась. Скучный я ей и необразованный был – завхоз, а она, понимаешь, преподавательница, ей всю жизнь другого хотелось. А мне Сергей, он тогда уже в подполковниках ходил, говорит: нет, с разводом затянуть могу помочь, и сына ей не отдадим, а удержать – никак, не те времена. Ну, тут-то я про бабку и вспомнил, как она учила, да…
- Так она там что же, живая?! – перехватило горло у Галки.
- Живая, кто ж её убивать-то станет? Не двигается вот только. Зато и не стареет. Я-то вон уже какой, а она всё в поре. Небось, сумей тогда её Сергей припугнуть, чтобы при мне осталась, тоже бы седая был… Ну, да ничего, я на Сергея не в обиде. Вот он у меня, тут, - и старик принялся отгребать землю, обнажая новое стеклышко.
Заглядывать под него Галка уже побоялась. Одну куколку ещё можно сделать – хоть бы и на заказ – а вот вторую… Нет, лучше не надо, а то поверишь ещё…
Но не верить было трудно: как-то очень спокойно, ни в чём не сомневаясь, рассказывал Владимир Осипович:
- Я ж его сюда не со зла положил. Плохой он уже совсем был, всю жизнь «Беломор» смолил, вот и досмолился, доктора от силы пару месяцев давали, а тут ведь дело такое – генерал ты, не генерал, а от смерти не убежишь. А я вот помог… ну, и навещать его почаще стараюсь, друг всё-таки. Посижу с ним, новости перескажу, сериал вот новый про бандитов идёт – тоже рассказываю… А вот на сына до сих пор злюсь, даже и сейчас показывать не хочу. Ишь, придумал, Родину бросать! Девица-то его несколько раз приходила, искала всё, а я говорю: нету, на Дальний Восток уехал, а кому уж он там что обещал – не моё дело. Так и отстала.
- И… не жалко его было?!
- Жалко, - твёрдо сказал пенсионер, - Я ведь недаром столько лет хозяйством заведовал: и чужое разбазаривать не дам, а уж своё – тем более. А тут все они при мне, все в сохранности, даже Абрек, кобель мой восточноевропейский… ну, ты-то позже приехала, не застала его. Хочешь поглядеть?
Галка кивнула, сама не понимая, зачем, и через минуту уже рассматривала крошечную чёрно-белую овчарку под стёклышком. Абрек казался особенно живым, должно быть, потому, что не лежал бессильно на спине, а вытянулся на животе, положив узкую умную морду на передние лапы.
Впрочем, долго разглядывать его ей не пришлось: Владимир Осипович решительными жестами принялся сгребать землю, укрывая последнее пристанище тех, кого он когда-то знал и любил. Покончив с этим, он разогнулся и внезапно снизу вверх подмигнул поднявшейся с колен Галке:
- Вот так-то. Только ты уж теперь смотри: кто секретик не хранит…
Галка медленно шагала к дому, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не побежать, а в голове у неё крутилось так и не досказанное:
«Кто секретик не хранит, сам в секретик угодит! Кто секретик не хранит, сам в секретик угодит…»
Елена Черепицкая
Снегурочка
новогодняя быль
Губа жжет и сочится, но уже не так. Я проверяю языком зубы – целы, чуть гуляют два верхних. Отец только кажется здоровым мужиком, силы в нем особо не осталось. Да и пьяный когда – в драку лезет, а попасть толком не может, не пробил. И все-таки обидно. Раз в году, раз в жизни мог бы не напиваться, как свинья.
Синий свет телевизоров мерцает во многих окнах, на улице – ни души. Слишком слякотно, ветрено, не по-новогоднему промозгло. Носки промокли и ноги окоченели в резиновых шлепанцах. На каждом подъезде – бронированная дверь и домофон, хоть ложись и замерзай на крыльце. Кто наткнется первого января на окоченевшего пацана в осенней куртке и домашних тапочках? Вот будет подарочек!
Я представляю себя, жалкого, лохматого, свернувшимся, как пес, под чужой дверью. Кто-то спотыкается, голосит. Кто-то заглядывает в лицо: «Это мироновский». Мать – растрепанная, пальто накинуто на плечи, наверное – с кровоподтеком. Стоит, качаясь от ветра, тянет губы в своей нервной улыбке, предвестнице слез. Вразвалочку за нею подходит отец. Кто первый из них опомнится, раскается, закричит: «Лешенька, сыночек, прости не умирай»? Хорошо бы батя. Но никакого ему прощения. А маму жалко, жалко.
Жалко маму и себя. Я всхлипываю носом, мажу слезы по лицу, задевая разбитые губы. Идти, в общем-то, некуда, только в подвал, в тринадцатый дом. Последнее наше прибежище. Последнее окно, которое не заварили насмерть решетками, а лишь прикрыли жестяным листом, будто специально приглашая шпану и оборванцев погреться в укрытии.
В подвале наш штаб, точнее – два штаба. У стариков – королевский, со настоящим диваном, кассетным магнитофоном и электрической лампочкой. И «малолетник» – клетушка, две доски-скамейки, свечной огарок на перевернутом ящике. Я лезу к старшим – все деды в новый год гуляют на чьей-нибудь неохраняемой даче в «Озерках».
У старших окурки с фильтром в пол-литровой банке и даже слегка потоптанная целая сигарета на полу. Дедам впадлу курить с пола, мне – нет. Я ищу по углам, под перевернутыми ведрами, в дыре дивана. Недопитая бутыль самогона – такая традиция: «Оставляй, чтобы всегда было налить другу». В кармане есть поломанное печенье и шоколадная конфета, гостинец соседки. Ну, с новым годом меня, с новым веком, с новым тысячелетием.
Самогон слабый, разведенный уже не раз. Но после слез и холода тело неожиданно быстро становится мягким и обессиливает. Я выкручиваю рукавом лампочку, заворачиваюсь в обрывок одеяла и проваливаюсь, втягиваюсь то ли в обморок, то ли в сон.
Мне снится сон. Мне снится ель на заснеженной поляне, и я под нею – маленький, в костюме Медведя, который скорее костюм Какашки. Коричневые колготочки, коричневые шортики, коричневая рубашечка... Мне холодно в рубашке без рукавов и меня трежит одиночество. Где-то рядом должна быть моя группа. Но из-за деревьев выходят дети – Снежинки и Клоуны, и я не узнаю лиц.
Снежинки и Клоуны противно кривляются, пуляют снежками, танцуют, притворяясь при этом, будто совсем не видят меня.
- Где наши? Где наши? – трясу я то одного уродливого клоуна, то другого. А они только тянут в оскале беленые лица и страшно закатываются: «Ха!-Ха!-Ха!» «Хи-хи-хи» - вторят шутам снежинки, будто механическое эхо.
Я падаю в снег, обжигаясь как паром из чайника, а клоунские башмаки и ледяные туфельки, обступают, окружают меня, двигаясь в каком-то беспорядочном танце.
- Мама! Мамочка! Мамочка, забери меня отсюда, - кричу я, раздирая горло. И не слышу слов.
- Ребята! А давайте поможем Алеше позвать Снегурочку! – грохочет чей-то голос над головой. Это отец – огромный, как гора, в пузырящихся спортивках и в протертом на рукавах домашнем свитере. В тяжелеем кулаке отца почему-то зажат волшебный посох Деда-Мороза – настоящий, а какая-нибудь не швабра, обвитая «дождиком». Кристалл в навершии посоха играет всеми цветами, а древко – то ли хрустальное, то ли из негорючего льда – ловит цветные лучики, преломляя и рассыпая по снегу, по небу, по бессмысленным лицам клоунов.
- Сне!-Гу!-Ро!-Чка! – орет отец, потрясая сияющим жезлом..
- Сне-гу-ро-чка! – в один тон чеканят бледнолицые болванчики. И я со своим беззвучным «Мама! Мамочка!» никогда не смогу перекричать их.
Вдруг белый свет ударяет на поляну, и в этом свете я вижу женщину – в белых меховых одеждах и с лицом, которое я где-то видел, но никак не мог узнать. Она зовет меня ласково и тревожно:
- Лешка! Лешка!
- Леха! Лешка! Ну, очнись! Пожалуйста!
- Беся!- улыбаюсь я, чувствуя себя по-дурацки счастливым.
Беся, Гарик Березин, самый маленький, самый щуплый, самый лучший из нас. Очкарик, которого никогда не задерут, обзывая очкариком. Цивильный мальчик, который таскает нам кофе от своей генеральши-мамочки и дорогие сигареты от генерала-папочки. Зачуханый ботан, который вслух читает поселковой шпане о парусах и пиратах, а шпана слушает, боясь чиркнуть зажигалкой. Беся, который называет всех только по именам, презирая клички. У которого есть настоящая приличная семья, и который все равно наш, свой в доску.