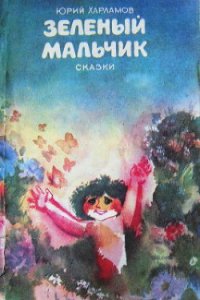Маримба! - Терентьева Наталия (книги онлайн полностью .txt) 📗
– Наверно, – согласилась я.
И Петрушевской я благодарна за долгий красочный разговор и за то, что не стала помогать. Зато у меня ничего тогда не случилось. Не сгорело, не пропало, никто не погиб. Все случилось позже. И я сидела в своем черном, в своей потемневшей от горя пещере, и писала, писала, чтобы не разорвало от тоски и боли. И чтобы кто-то, прорвавшись сквозь темно-серую пелену моей боли, дочитав – или пусть даже не дочитав, бросив книжку! – быстро взял трубку и позвонил маме, своей маме, еще живой. Той, которой, в отличие от моей, еще нужны забота, любовь, внимание, самые лучшие лекарства, самые лучшие слова, которую можно обнять, прижаться к ее теплой щеке, погладить по руке, которой можно привезти печенье или ягоды с дачи, которая обрадуется цветам, внимательно посмотрит в глаза и спросит:
– Что, дочка? Что-то не так? Все хорошо у тебя?
Которой можно пожаловаться или не пожаловаться – пожалеть маму. Ту маму, которой еще не пришел ее срок, последний, беспощадный. Ту, чьи дети еще могут почувствовать себя детьми – взрослыми, важными, успешными или не очень, но детьми своей мамы. Которой завтрашний день точно не обещан, как никому из нас, но у которой есть сегодняшний. И еще можно что-то исправить. Попросить у нее прощения, прижать к себе, беспомощную, одинокую в своих мыслях о неизбежном, которое становится все ближе и ближе. Которую можно рассмешить и порадовать. Которую можно любить – живую, пока ей еще нужна эта любовь.
Слова
Какие страшные слова вошли тогда, вползли, ворвались в нашу жизнь. Какие как. Некоторые вторглись сразу, пришлось их с содроганием повторять, к другим мы так и не смогли привыкнуть. Реанимация, искусственное дыхание, капельницы, пищевая трубка, трахеостома… Казалось, ничего страшнее не может быть. Может. Морг, выбрать и заказать гроб, прощание, отпевание, крематорий, поминки, девятый день, надгробие, памятник, разобрать мамины вещи, которые еще хранят ее тепло…
Опытные люди предупреждали: а вот потом только все и начнется. Что же еще может начаться, думала я, чернее и хуже быть не может. Самые черные ведь были те дни, когда утром позвонил Лёва и сказал: «Мама умерла», когда я последний раз держала ее за руку, уже неживую, уходившую навсегда, когда покупала ей легкий голубой платок. Маме очень шел голубой цвет, к глазам…
Потом наступила тишина, пустота. Стало сниться, что мама умерла, значит, постепенно привыкало к этому подсознание, которое поначалу и знать не хотело, подсказывало мне: «Маме позвони, расскажи, как тебе тяжело сейчас!» Подсказывало, и не раз. Хуже нет, когда во сне ты ничего не знаешь, и в первый момент утра не знаешь, а потом наваливается – то черное, неизбежное, что никак не изменишь, никак. Можно только пытаться смириться.
Днем тихо и пусто. Нельзя позвонить, нельзя сесть в машину и рвануть к маме, нельзя обнять, нельзя услышать мелодичный холодноватый голос, нельзя быстро чмокнуть Катьку, передавая ей бабушкин поцелуй: «Бабушка просила тебя поцеловать».
Нужно было отдать кому-то маминого кота. Не усыплять же его. Кот был толстый, вредный, ленивый. И очень не любил меня, всегда не любил. Ему было лет семь, мы посчитали с Катькой. Я написала в объявлении: «Пять с половиной, спокойный, воспитанный». Но никто так и не позвонил.
Мамин кот был похож на темно-серую пушистую шапку, медленно плывущую по коридору или брошенную на тумбочку в прихожей. Только в отличие от настоящей шапки он мог спрятаться на стуле под скатертью, дождаться и хватануть за руки, сильно, лапой с выпущенными когтями. И, молча посмотрев на тебя оранжевыми глазами, снова свернуться в приятный пушистый калачик. Кота взяли Лёвины родственники. Как раз те, что и подарили маме когда-то маленькую пушистую живую шапку, которая росла, росла, царапалась, кусалась и однажды метнулась из-под стола маме под ноги. Она упала – тяжело, неловко, на больное плечо. Мама просидела в гипсе полтора месяца, а еще через месяц умерла. Наверно, ее очень любил Бог, посылая ей такие испытания.
Первые месяцы после маминой смерти было трудно дышать. Вот уже вернулся аппетит, кое-как вернулся сон. А нормально дышать не получалось, как будто все время не хватало воздуха. И теснило в груди. Словно там был какой-то канал, невидимый, но сильно ощутимый, который связывал меня с мамой. И его перерубили.
Туда уходила и уходила моя энергия, энергия любви, страдания, бесконечной жалости, текла, текла… И ничего не втекало обратно. Наверно, когда-то ученые объяснят, что это такое. И Катькины дети будут проходить в школе в курсе анатомии человека и про мой оборванный канал связи, любви, или как его назвать. И путаться, и рисовать его, и знать, из чего он построен. Из каких неизвестных сейчас частиц, или энергии…
Мы с Катькой часто звоним друг другу одновременно. И раньше так звонили с мамой. Чем, каким органом чувств мама ощущала, что я заболела, когда я была от дома за три моря? И за горами. Что могло пробить тысячу километров и горную толщу в придачу, чтобы позвонить друг другу одновременно? Одна только набирает номер, а другая уже дозвонилась. Одна отвечает:
– Все хорошо! – И смеется, чтобы наверняка убедить.
А вторая говорит:
– По голосу-то нормально. Но вот понимаешь, я такой сон сегодня про тебя видела, и все утро как-то душа не на месте…
Рана, этот оборванный канал, выходящий из души, заживал долго. Мамина душа, если верить православным представлениям, уже у Бога. Уже давно решилось, куда ей пойти – дальше страдать, и теперь уже навсегда, как она страдала всю короткую – в сравнении с вечностью – жизнь. Или отправиться в райские кущи, спокойно пребывать в вечности, с отпущенными грехами, успокоившейся, где она не будет больше ни о чем болеть, мамина душа. Я надеюсь, что все мамины грехи простились ей за то, сколько она в жизни страдала. От несправедливости, от нелюбви, от грубости, от бедности, от болезней.
А если не верится в райские кущи? Может быть, мамина душа уже переселилась в кого-то, только что родившегося. В какую-то птичку. Или в яблоню, которую мы посадили на даче в память о маме. Мне хотелось посадить какое-то деревце, которое будет цвести весной. Расти, расти и цвести. Наверно, что-то в этом есть. Есть же такие древние-древние русские сказки, идущие из дохристианских времен, где мать становится березкой. И разговаривает с детьми, оставшимися на земле, шелестом листьев, колыханием веток…
Ненавижу многоточия, заставляю себя ставить прочные, надежные, жесткие точки. Но как здесь поставишь точку? В моих струящихся мыслях, разлетающихся и вновь собирающихся в один пучок, мучительный, горячий. И снова и снова проворачиваются картины того лета. Вот мама сломала руку, сидит в голубой Лёвиной рубашке, и у нее почему-то так странно изменилось лицо. Вот она на кровати, лежит, смотрит на Катьку и удивляется: откуда же у Катьки вдруг выросли такие красивые ноги. Вот она в сотый раз упрашивает взять какую-то кофточку для Катьки, а я в сотый раз отказываюсь. Ну не нравится мне эта кофточка, и люди не нравятся, которые подарили маме эту дорогую и ненужную вещь, – зачем она Катьке?
Вот вспоминается, как мы поссорились с мамой в августе. И как я ей не звонила. Не звонила и не звонила. Сажала цветы и кусты на даче, косила траву. Покупала Катьке творог и молоко на рынке. Готовила в печке вкусные дачные блюда в глиняном горшке. Была счастлива и самодостаточна. А маме оставалось жить меньше двух месяцев, и она лежала и думала о нас. И еще о чем-то своем, страшном.
Почему она мне не доверяла? Почему она больше доверяла сыну? Почему ничего не видела? Как маленькая…
Мне мама в качестве маленькой девочки не нравилась. Я искала и искала в ней взрослую, умудренную маму, хотела поддержки, понимания.
Если бы можно было открутить ленту времени назад, ну хотя бы на три месяца, ну на четыре, а лучше на год…