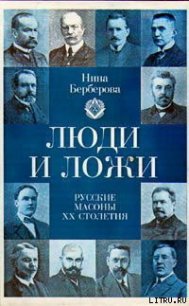Мыс Бурь - Берберова Нина Николаевна (библиотека электронных книг .txt) 📗
— Я не понимаю вас, — сказала я совершенно искренне, — вы мальчик неглупый, красивый даже (вы сами знаете, какой вы), и вы боитесь, что никто не полюбит вас? Сколько вам лет?
— Двадцать пять.
— И никто до сих пор не любил вас?
— Никто. То есть никто не любил так, как мне хотелось, так, как будто это и в самом деле на всю жизнь.
— Очень хорошо сказано: «как будто». Вам не кажется, Жан-Ги, что мы все дошли до точки? До высшей, кульминационной точки, до некоего апогея.
Он потянулся в кресле и не ответил на мой вопрос. Мы замолчали.
В сером своем халате, бледная и худенькая, превратившаяся опять в четырнадцатилетнюю девочку, вошла Зай. Она уже привыкла за эти две недели, что Жан-Ги вечерами сидит у меня, не протестует, как в первый вечер, и теперь пришла послушать, о чем мы говорим. Минуты две она сидела на одном из колен Жан-Ги, спиной к нему, лицом ко мне, потом тихонько пересела на кровать, и так как мы молчали, стала напевать что-то совсем тихо. Грусть, недовольство, хмурость, все исчезло в лице Жан-Ги; оно стало беспокойным, и я почувствовала, что он начинает следить за собой.
— Каждый день, — сказала Зай, ни на кого из нас не глядя, — должен бы, собственно говоря, приносить с собой что-нибудь. С таким усилием солнце встает на небо, и вдруг — ничего. Пили-ели, спать пошли. Но теперь есть книги. И потом — болезнь была; она дала время о стольком подумать. Завтра я встану с утра, а послезавтра — на работу.
Я молчала. Жан-Ги смотрел на нее долго, не мигая.
— Я пришла послушать, о чем вы тут говорите, — продолжала Зай, — а вы молчите, говорю я. Вы поссорились?
— И не думали.
— Мне хотелось бы, чтобы вы были союзниками, не обязательно против кого-нибудь, просто — союзниками. Вы можете быть во многом друг с другом согласны.
— В чем? — спросила я, и она, конечно, почувствовала в моем голосе насмешку. — В чем нам быть согласными? И для чего нам быть союзниками?
— Главное, знать, — сказала Зай очень тихо, — кто союзник и кто враг. Умные люди всегда это знают.
— И потом?
— Потом — ничего… Я хотела бы уехать куда-нибудь далеко… Нет, я хотела бы всю жизнь жить в Париже, никуда не выезжать. Здесь так хорошо.
— Да, здесь хорошо.
— Я хотела бы все испытать, все понять и никого не видеть, ничего не знать. Я хотела бы разбиться на куски и всегда быть в целости. Не смейтесь! Все это странным образом уживается во мне.
— Это вовсе не смешно.
— Я хотела бы любить всю жизнь только одного и в то же время я боюсь упустить другое какое-то счастье…
— Двойника?
Но она не ответила. Он вступил в разговор запальчиво, страстно:
— Вот видишь, видишь, я всегда это знал, я тебе говорил, ты сама не знаешь, чего хочешь, ты не любишь меня нисколько.
— Вы не могли бы пойти объясняться без того, чтобы я была при этом? — спросила я.
— Конечно, мы уйдем. Вы обе вызываете меня на разговоры, которые я совершенно не желаю вести. И как можно говорить на такие темы втроем? На такие темы говорят вдвоем.
— Но надо, чтобы в мире все было уравновешено, — сказала Зай, не двигаясь. — Ты согласен, что все, что существует в мире, должно быть уравновешено?
Он пожал плечами.
— Я хотел бы знать, — сказал он сердито, — что именно уравновешиваем мы сейчас все трое, в этой комнате, этим разговором. Одно для меня бесспорно… Но я решительно отказываюсь говорить о себе и тебе при посторонних. Что у вас за привычка выносить все на обсуждение!
— Выйдите оба вон! — сказала я сухо. — Зай, проводи его.
Я осталась одна. Я ни в чем не могла упрекнуть себя. Разве я «ссорю» их? Конечно, нет! Но если бы меня не было, они оба были бы спокойнее. Они были бы счастливее. Все вокруг них движется, и они движутся, он волнуется и сомневается, она ищет чего-то, она растет. Все это похоже на ход планет в небе, на все кругом, потому что все кругом живет. Одна я не живу, я жду изо дня в день, из ночи в ночь: что-то должно произойти. Должен долететь до нас голос, должно раздаться слово. И это слово должно повернуть всё и воскресить меня.
— Сонечка — самая русская из трех, — повторяет Фельтман, милый Фельтман, с такой нежной, умной и всегда улыбающейся чему-то душой. Их немного осталось таких, как он. Вчера он рассказывал о смерти какого-то своего приятеля, которого он похоронил недавно, и у меня было такое чувство, будто он рассказывает о своих собственных похоронах: почему-то я так отчетливо вижу за ним его близкую смерть и почему-то мне кажется, что она будет нелегкой. Отец мой старше его и часто в последнее время болеет, но я не вижу смерти за ним. Мне даже кажется, что он становится все легкомысленнее, к великому огорчению моей матери. Я не удивлюсь, если окажется в один прекрасный день, что у него еще где-нибудь есть дочь или сын. Он много на своем веку обманывал.
Володя Смирнов на своем дурацком русско-французском языке сегодня признался мне, что «в случае чего» он будет мобилизован в первый же день. Я не удержалась:
— Ты думаешь, что это произойдет?
— Я думаю, скорее, чем мы предполагаем. Я-таки решил жениться на Мадлэн, чтобы «в случае чего»… все было бы в аккурате.
Я похвалила его за такую предусмотрительность. Прощаясь, я спросила, куда делся его пражский брат? С великим трудом получив визу, он, наконец, отбыл третьего дня в Америку. С этим человеком мы так хорошо помолчали однажды вечером. Я долго не забуду этого часа. Это одно из моих самых лучших воспоминаний за весь год. У других — разговоры, у меня — молчание. Неудивительно, что у меня такое впечатление, что я иду и не попадаю в ногу с остальными.
Уже давно замечала я за собой это резкое несоответствие, делавшее мою жизнь особенно трудной и безуханной; несоответствие касалось меня в целом и мира вокруг меня: временами я видела себя слишком отчетливо, ясно, трезво, и в эти минуты ничего кругом себя не видела. Остальное было всё, как в тумане сгустившегося сна, я одна была в центре луча прожектора. И наоборот: когда я видела окружающее меня в обнаженности, в его реальности, я сама исчезала в земном облике, едва различимом. Возникало болезненное ощущение разделенности между сном и явью, когда мир вокруг так прочно и так несложно стоит, а я колеблюсь где-то не в фокусе собственного зрения; или будто мне видится мир сквозь пелену, мир зыбкий, неуловимый, в то время как я могу разглядеть в себе самой каждую жилку, могу различить каждую, едва наметившуюся, черту свою.
Стройности нет. А если в чем-то нет стройности, гармонии, меры, то это «что-то» не существует. Во всяком человеке должна быть гармония. И вот я не существую, я никогда не существовала. Во мне достаточно силы, чтобы это признать.
Есть люди, есть книги, в которых можно встретить это сознание собственного несуществования. Но наряду с ним какую-то бешеную гордость: я горжусь, что я не такой, как все, что я сломан, что я пропал, что мой мир таков, что мой век таков, что ничего вообще нет и ничего не надо. Почему же я не испытываю при этих мыслях никакой гордости? Никакой зловещей радости? Гордость и радость ослепили бы меня на всю жизнь, и я бы не увидела той страшной духовной нищеты, той «безопорности», в которую я забрела. То, что я ее вижу, не дает мне никакого удовлетворения: да, без иллюзий; да, пустота.
Но разве не могло быть и иначе? Иногда мне кажется, что могло быть, что бывает иначе!
Глава семнадцатая
Август наступил, жаркий и ветреный, с пылью и грохотом опустевших улиц. Любовь Ивановна и Тягин выехали из Парижа в деревню неподалеку, высчитав все до последнего франка; Зай ходила в книжный магазин (отпуск в первый год работы не полагался), возвращалась вечером, усталая от жары и работы; Соня, написавшая и отославшая свое прошение, целыми днями лежала у себя в комнате и курила. От Даши, по само собой заведшемуся порядку, раз в две недели приходили письма, без обращения, — об Африке, мальчиках, прислуге, собаке, погоде, о Моро и о себе самой. Их распечатывала и читала Зай, складывала на камине в столовой и грустила над ними.