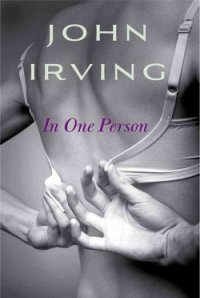Семья - Федорова Нина Николаевна (книги онлайн полные версии .txt) 📗
Бури жизни напрасно бушевали над головой графини: они ее не искалечили. Казалось, природа имела свои какие-то цели, бережно сохраняя тип спокойной женщины. Она всегда давала ей достаточно физических сил. Что же касается сил духовных, они являлись следствием воспитания. Графиня была спокойно-религиозна, стоик по характеру, аскет во всем, что явилось бы ее личным удовольствием. Беспристрастная в суждениях, она не была связана никакими политическими предрассудками и в лазаретах одинаково внимательно перевязывала раненых бойцов всех партий О политике она никогда не говорила, никого ни в чем не обвиняла и шла какой-то своей дорогой, конечно, тяжелой и трудной, но в то же время прямою и светлой. Она не была сентиментальной, не восклицала: «Безумно! Боже, какой ужас! Какая жалость!» В семейной жизни она была источником покоя и радости, всегда создавала уют, даже когда жили в углу, и всегда все на ней было чисто, даже в дни отсутствия мыла.
Ее сын Леон был поразительно красив, очень сдержан, избегал эффектов в словах и манерах, всему предпочитал спокойное уединение. Итак, по выражению Климовой, дом № 11 «кишмя кишел» аристократией, и она – наконец, слава Богу! – была в «своей атмосфере». Но, к ее удивлению, графиня просила называть ее не титулом, а Марией Федоровной. А граф Леон интересовался Петей больше, чем мадам Климовой, и не выразил желания видеть фотографию Аллы, о которой она ему уже рассказала. Далее, графиня отказывалась поддерживать; разговор о высшем обществе, и коронация в Англии, казалось, совсем ее не волновала. История любви, связанная с короной, оставляла ее незаинтересованной.
«Странно, странно! – шептала про себя мадам Климова. – Какое вырождение аристократии! Боже, куда мы идем?»
И, к полному изумлению, услышала, что графиня и Татьяна Алексеевна обсуждают именно «дрязги» существования. Поверить ли? Графиня спрашивала, что стоит открыть пансион, вроде №11, на французской концессии.
– Поначалу это ничего не стоит, – отвечала Мать. – Самое большее – рента за месяц. Все остальное вы берете в долг. Это почти обычай в Китае. Вы нанимаете и прислугу в долг, месяца на два-три. Жильцы всегда будут, так как теперь много народа укрывается на концессиях. Трудность в том, что почти невозможно найти свободный дом, а также в том, что жильцы обычно не платят. Так у нас исчезли, например, японцы. Китайцы часто исчезают, даже заплатив, и неизвестно куда. Русским же нечем платить. На другие нации трудно рассчитывать как на жильцов. Они имеют свои концессии.
– Но как вы живете?
– Я не знаю, как мы живем и живем ли мы, – призналась Мать. – Это время движется, а не мы живем.
И обе они засмеялись.
10
Жизнь в городе делалась все тяжелее. Промышленность, сельское хозяйство, искусства – все было разрушено, все гибло, все останавливалось. Китайская обида была слишком глубока, чтобы о ней забыть, и сотрудничество, на которое рассчитывали японцы, не осуществлялось. Беженцы, нищие, японские солдаты, пушки, недостаток провизии, страх, высокие цены, холод и ветер – тот страшный ветер, что приносит облака пыли из пустыни Гоби, делает день темным, как ночь, – все это и составляло пейзаж и атмосферу города.
Давление японской воли усиливалось. Его начали испытывать и бояться не только китайцы и не пришедшие на поклон русские, но и другие нации, даже и граждане сильнейших европейских стран. Пошли «инциденты», пошли «конфликты» – и все всегда заканчивалось в пользу Японии. Когда уже на самой британской концессии японский офицер ударил полицейского-англичанина хлыстом по лицу, а полицейский был на посту – тут уж все поняли, что дело серьезно, что Япония не просто разбойник, а сильная держава. Этот ударенный по лицу англичанин для Европы значил больше, чем тысячи квадратных миль опустошенных китайских полей и полмиллиона убитых китайцев. И те, кто имели средства и возможность, заторопились в свои консульства, чтобы взять визы для возвращения на родину. «Уж если осмелились поднять руку на Англию – то никто не защищен, всем грозит опасность».
Тут выступили наружу национальные характеристики. Англичанки, большей частью из хороших фамилий, спокойно-бесстрашные в нужный момент, но избегающие инцидентов и зрелищ, сидели по домам, не показываясь почти совсем на улицах. Француженки, чьи бабушки и матери видывали зрелища революций, наоборот, выходили поглядеть, не будет ли какого события и на их концессии. Но когда японский солдат намеренно толкнул французскую даму, она с криком «Vive la France!» накинулась на него, как тигрица. Ее ногти были хорошо отточены, мускулы рук развиты теннисом, – и она рвала его лицо, царапала и, возможно, задушила бы, если бы солдата от нее не вырвали. Окровавленный солдат и леди в синяках и в лохмотьях вместо былого платья были наконец разведены волонтерами из толпы. Но надо сказать, китайские зеваки не очень поторопились вмешаться. Им любо было поглядеть и позлорадствовать: не могло быть зрелища слаще для китайских очей, как избиваемый японский солдат, и, отрывая его от леди, они жали его и толкали куда больше, чем требовалось. Кто-то уже позвонил во французское консульство. Был также позван рикша, француженка бережно усажена в колясочку, и лоскутки ее одежд собраны до одного и положены ей на колени. И уже маршировал на место происшествия единственный в городе французский полковник с единственным на территории концессии взводом бравых французских солдат. Потомок Тартарена, полковник, несомненно, был тоже из Тараскона, об этом говорил весь его вид: и круглый животик, и необычайно доблестный вид. С тех пор так и повелось. Чуть что или подозрение чего-то возникало на французский концессии, полковник наспех подкручивал усы и маршировал с таким видом, что престиж Франции все подымался в глазах населения, особенно мальчишек.
Итальянцев опасно было затронуть. Интернациональный ли закон или никакого закона – они подходили к делу не с этой стороны. Один из них вдруг выхватывал из-за голенища кинжал, всегда хорошо отточенный; другой бежал и звонил – но не в свое консульство, а в бараки. Вмиг летели грузовики, не соблюдая правил уличного движения, к месту, где их друг-соотечественник был в опасности. Они пели, пока ехали. Во всем было больше звука, чем дела. Когда же доходило до судебного разбора, то никакой не было возможности добраться до истины.
И создалось такое положение: на французской и итальянской концессиях инцидентов с японцами не происходило, и цены на квартиры повысились неимоверно. На других инциденты продолжались. Что бы ни произошло, дело оканчивалось пустыми извинениями японцев: они сожалеют, что все так вышло. Никаких конкретных компенсаций они никогда не выполняли.
Начались жестокости в отношении слабейших. Первыми шли китайцы, вторыми – русские. С мелочностью, свойственной японцу, выросшему на маленьких островах, в маленьких домиках, между карликовыми деревьями, – они входили во все детали жизни ими покоренных. Начались бесконечные анкеты и допросы.
Мать страдала за всю Семью. Семья распадалась. Уже невозможно было держаться вместе. Три разные дороги готовила судьба Пете, Лиде и Диме.
Решено было, что Дима поедет в Англию с миссис Парриш. Он с легким сердцем выслушал это решение. Для него в этом было много интересного. Он сам, по телефону, научился вызывать такси для миссис Парриш, и они ездили за покупками. Дима, никогда прежде ничего не покупавший, наслаждался прелестью и могуществом наличных денег. Они ездили в английское консульство, и там для него готовили документы. И все же, вернувшись домой после всего этого счастья, он, вдруг охваченный беспокойством, бежал искать Мать. И только крепко обхватив ее руками, он чувствовал, что все хорошо, потому что все по-старому. Мать чувствовала, как встревожено билось его маленькое сердце. Но ее темой для разговора с Димой было то будущее, когда он их всех «выпишет» в Англию и всех устроит. А Дима иногда поправлял: «Или я приеду к вам, но только уже богатый».
У Лиды не было службы. Частые письма Джима поддерживали в ней бодрость. Но ее настоящее было пусто – и эта бесполезная трата юности огорчала Мать. Уходило время, когда бы она могла учиться, иметь профессию. «Полуобразованная, – с тоской думала Мать. – Пишет с ошибками». Но сама Лида не замечала именно этих недостатков и вполне довольствовалась тем, что уже знала. Молодая здоровая любознательность, не найдя пищи, постепенно угасала в ней.