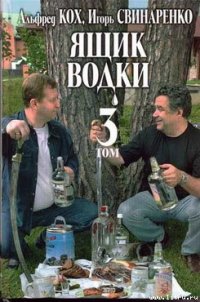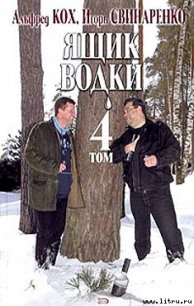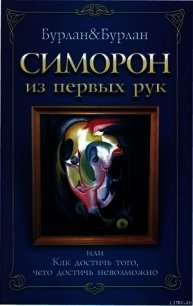Ящик водки. Том 1 - Кох Альфред Рейнгольдович (онлайн книга без txt) 📗
— Но ты согласишься, что и плотность полиции, и неотвратимость наказания — это в Европе всегда было ярче выражено, чем в России.
— В какой период? Надо еще разобраться…
— Да всегда… Но давай мы в свой период вернемся. Вот ты уже практически закончил писать диссертацию. Шел по прямой дороге, и все было тебе ясно…
— Нет. У меня были проблемы с трудоустройством! У меня не было ленинградской прописки, я был прописан в области. И меня никто не брал на работу. Уже став кандидатом наук, я продолжал трудиться дворником. Ну, формально еще не был я кандидатом, но аспирантуру уже закончил и ожидал неминуемой защиты — моя очередь подходила.
— Ты фактически был ущемлен в правах.
— Да не был я ущемлен. Меня все устраивало! Кстати говоря, когда я после защитился и пошел работать в НИИ, мне родители перестали помогать — все, я уже закончил учебу, самостоятельный человек. И мы стали жить хуже, чем когда я работал дворником!
— А я в 86-м году все так же работал в калужской газете, но уже много печатался в больших газетах — «Собеседник», «Комсомолка», «Советская Россия». Тогда это было круто. Они были не то что сегодняшние газеты, а настоящие, качественные, высокие — типа как «КоммерсантЪ» в начале 90-х.
— А чего они на тебя обратили внимание? Много ж вас таких провинциальных журналистов… Ценили твое острое перо? Ты уловил дыхание перестройки?
— Когда пошла перестройка, то ЦК начал директивно требовать от центральных газет — давать материалы поострей. А где взять поострей? Естественно, с мест. А ну, что-то вроде пропечатайте отдельные недостатки! Люди говорят — ага, пропечатаем, а нас завтра на цугундер…
— А тебе это было до фени?
— Ну. Это ж развлечение, острые ощущения.
— А, это как сейчас — Кремль критиковать нельзя, но поскольку мы взяли курс на демократию, то критиковать кого-то надо. Ну давайте местных царьков. А кто положение на местах знает лучше, чем местные журналисты? Вот давайте возьмем самых талантливых из них, в частности Свинаренко…
— Ну, к примеру.
— Все можно критиковать, кроме президента, типа — жена цезаря вне подозрений. А вот губернаторов отметить — милое дело. И министров. Вот поэтому сейчас все изгаляются, какие они плохие. Вон Наздратенко кто только не пнул! В этом смысле мы вперед пошли…
— Да. Раньше только дворников — таких, как ты — критиковали, а теперь можно и министров. Безнаказанно причем! А комсомольским газетам и тогда дозволялось больше — типа пар в свисток, все такое… Была, конечно, логика — основы не надо трогать. У меня вот был любимый персонаж — дояр Витя Иванов.
— Типа как у Лаэртского — дояр Федя Мощнорукий?
— Это было в районе, чтоб не соврать, в Мосальском, что ли. И я про него дал серию здоровенных заметок в разных газетах. Там пафос был такой. Этот Витя, шустрый такой парень и многодетный отец… Так его ноу-хау было в чем? Что он, с одной стороны, не пил, а с другой — не воровал. Обычно ж доярки разворовывают все — от комбикорма до молока, а этот был такой преувеличенно честный. Имеется в виду надой от голодных коров, оставшийся после воровства коровьего комбикорма. А у Вити коровы были сытые, молока получалось много, и он его еще к тому же не крал. Фантастика! Лисовский и сегодня жалуется, что доярки воруют (у него не только куры в его «Моссельпроме», но и коровы есть как попутное производство)! Молоко воруют. И Лисовский никак их не может упросить, чтоб они просто воровали, а не разбавляли оставшееся молоко водой — чтоб не видно было. Потому что такое молоко повышенной жидкости не принимают на молокозавод, его могут взять только на переработку в какой-нибудь сыр, причем за отдельную плату. И вот Лисовский призывает доярок воровать открыто, чтоб он не попадал на дополнительные бабки. Спиздили, говорит, и отдыхайте спокойно, оставьте все как есть. Не делайте лишней работы! А они не слушают. И доливают.
— Ну, тут Геннадий Андреич Зюганов мог бы дать разъяснение. Он утверждает, что народ русский очень совестлив. Он водой разбавляет от совестливости!
— И вот в итоге Витя ничего не брал — ни кормов, ни молока, — и молока у него выходило до ебени матери.
— Ему коллеги темную не устраивали?
— Ну там же бабы, он как-то отбивался. Но начальство ему срезало расценки — а то если платить честно, он бы сильно много зарабатывал. Больше первого секретаря обкома! Что было бы не очень политкорректно. И была такая инструкция, что каждому по итогам года устанавливали личные расценки — и в результате все зарабатывали примерно одинаково. Такой был идиотизм. Ну, ты это лучше меня должен знать, ты ж ученый-экономист. Так Витя пытался убедить начальников, что надо платить по справедливости. Вот стоит тонна молока столько-то — и платите за каждую тонну, и плевать, сколько всего надоено. Но, конечно, никто не мог на это пойти. Ведь тогда пришлось бы признать, что Витя Иванов — единственный честный колхозник во всей Калужской области. Или если уж совсем глубоко копать, так он вообще мог согласно уставу колхоза отделиться от общественного хозяйства и выйти из него со своим паем, и насрать ему было б на нормы и расценки, он бы торговал своим молоком на рынке по рыночным же ценам. Короче, все неприятности Вити были оттого, что он, желая честно трудиться за справедливую плату, тем самым автоматически посягнул на устои. А ваша советская экономическая наука позволяла Витю так об…вать, чтоб его еще и опускать. И про это я немало написал, но ничем это, понятно, не кончилось.
— Человека как об…вали, так и будут об…вать.
— О, слышу голос не мальчика, но кандидата экономических наук… Короче, такие заметки в редакциях охотно хавали. А ругать разрешали только обком комсомола, который не желает помочь новатору. Новшество же было в том, чтоб не воровать, — это, кстати, на кандидатскую тянет. Ну, крови нам с Витей немало попортили потом местные начальники. Кстати, Калуга — красивый, милый город, я всегда это говорил, но местные начальники были такие темные, такие нудные, что все впечатление портили… А еще была такая тема. Один видный менеджер теперешней журналистики — большой демократ, разумеется, — помню, бегал по кабинету и рвал на себе волосья. Типа, что за заметку я ему принес, я его этим подставляю! Да как же подставляю, она ж не опубликована еще, только мы с тобой вдвоем ее и прочли. А он орет — нет, это подстава, вдруг узнают, кого он пригрел. Значит, заметку зарубили следующую. Некий — кстати, тоже кандидат экономических наук — в Туле создал так называемый рабочий клуб, там он вечерами собирал пролетариев и с ними разбирал производственные вопросы. На него сразу наехали, исключили из партии, и он летал там как сраный веник. Я написал — ну чего пристали к человеку, пусть он занимается с пролетариями и рассказывает им что хочет, все равно они не поймут. Смешно сказать, ему вменили аморалку: развелся с женой, а потом женился. Чего он как член партии не имел права делать.
— Почему? Коммунисты что, католики?
— Да, католики. Более того — пошли они на …! Ты ко мне чего пристал? Я, что ли, устав КПСС сочинял?
— Я тоже против разводов, но хочу понять… Они же отрицали брак!
— Ну да, Коллонтай там резвилась с матросами… Ленин — с Инессой Арманд там… И так далее.
— Коммунисты действительно были свернутые на семейной теме. Но я хочу понять причины! Ты можешь мне объяснить?
— Могу!
— Давай.
— Э-э-э… Человек должен, по коммунистической версии, привыкать к тому, что он полностью принадлежит партии. И она руководит им тотально. А когда он разводится, то он как бы ставит свои эмоции и инстинкты выше партийной дисциплины.
— Не понял.
— Ну как? Начальство ему не велит разводиться, а он, б…, лезет разводиться.
— Да мне не понятно, какое их дело!
— А то дело, что если ты с женой разведешься, то можешь по инерции заявить: «Да пошли вы вообще все на …». Над тобой уже просто утрачивается контроль.
— Так…
— Я считаю, такая схема была. Это как ты пришел в монастырь, постригся — вот и сиди, молчи. Школа послушания: сказали тебе — иди делай. И не рассуждай, о чем тебе не положено. Вот если завтра отомрет семья, то тебе об этом объявят с трибуны съезда КПСС.