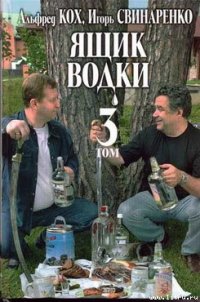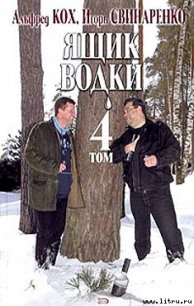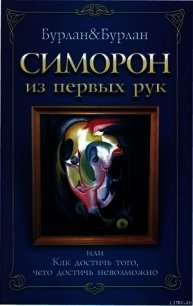Ящик водки. Том 1 - Кох Альфред Рейнгольдович (онлайн книга без txt) 📗
А один человек мне рассказывал о своем удивительном опыте, когда он в Нью-Йорке, чужом для него городе, заработал много денег: «Самое страшное, когда у тебя в кармане толстая пачка долларов, ты можешь до хера чего купить — а ты никому не нужен…»
Свинаренко: Значит, интерес к деньгам…
— …был на уровне удовлетворения минимальных потребностей.
— Что это было — затянувшееся детство?
— Хрен его знает. Никто ж нас не готовил к капитализму. Он сам появился.
— А сейчас бы ты смог жить бедно? Или сказал бы: «Убейте меня лучше».
— А что это за такой эксперимент? Я не очень понимаю. Какая такая острая необходимость жить бедно? У меня нет такой необходимости. И потом… Меньшиков, например, был один из самых богатых людей России…
— Он спиздил же там все в Питере.
— Ну какая разница…
— Что значит — какая разница?
— Ну что тут такого — спиздить?
— Ну как что? Настроил себе дворцов на бюджетные деньги. Во красавец!
— Кхэ-кхэ. И царь все знал. И сам в этих дворцах жил.
— Фактически Меньшиков в Питере занимался приватизацией. Ха-ха-ха.
— Там нечего было приватизировать на болоте. Он все построил, а потом спер. Ну, да неважно!
— Ты меня смешишь — как так не важно?
— Ну, хорошо, скорей всего он был вор. А потом его сослали в Березов. Говорят, он там хорошо себя чувствовал. Дрова рубил, баню топил. Правда, денег не было.
— Да… Березу — в Лондон сослали, а этого — в Березов.
— Я это к тому, что вон какие люди в ссылке жили, и ничего. Или вон Климентьев, из Нижнего, которого Боря Немцов законопатил. Посадили его в тюрьму, он там год, что ли, посидел, и далее на поселение. Дом купил там, телогреечку надел и в ней прогуливался, воздухом свежим дышал, а за ним охранник ходил.
— Один мой товарищ рассказывал, что если тут обратно будет советская власть, то он все равно в России останется. Он готов с «БМВ» сесть на «Москвич» и ездить бомбить, поскольку он на Западе столько времени провел и понял, что там ему скучно и не хочется ему там жить.
— В этом смысле нищета меня не страшит. Детей только жалко. Сам я из дерьма вылез, в дерьмо и залезу. Мне не западло в телогрейке походить.
— А что дети? Отчего тебе их жалко?
— Они родились уже в хорошей жизни и к другой не приспособлены.
— Может, надо их и к той жизни готовить тоже?
— А зачем?
— Вон Бунин — дворянин и то косил, с крестьянами тусовался, жрал с ними тюрю.
— Ну понятно. И тем не менее, когда перед ним встал выбор, свинтил во Францию. Почему-то не захотел вместе с народом косить. А какая-нибудь Цветаева из той же оперы оказалась в Елабуге. — Бунин еле отгавкался, когда крестьяне приехали его жечь в 17-м. Он на всякий случай, для очистки совести, сам не веря в успех своей затеи, вышел на порог и наорал на крестьян — типа вон отсюда, быдло и твари. Они по старой памяти и ушли, солнцем палимые.
Комментарий
Цитаты из «Окаянных дней» Бунина:
«Как распоясалась деревня в прошлом году летом, как жутко было жить в Васильевском! И вдруг слух: Корнилов ввел смертельную казнь — и почти весь июль Васильевское было тише воды, ниже травы. А в мае, в июне по улице было страшно пройти, каждую ночь то там, то здесь красное зарево пожара на черном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно и, сбежавшись всей деревней, орали, что это мы сами зажгли, чтобы сжечь деревню. А в полдень в тот же день запылал скотный двор соседа, и опять сбежались со всего села, и хотели меня бросить в огонь, крича, что это я поджег, и меня спасло только бешенство, с которым я с матерными словами кинулся на орущую толпу».
И еще там же, снова про бунт:
«Если б теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно — опротивел человек! Жизнь заставила так остро почувствовать, так остро и внимательно разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза — как мало они видели, даже мои!»
«В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда „державный народ“ восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся — начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие…»
«…вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями…»
Еще Бунин цитировал Достоевского, которого вообще, кстати, по ошибке допустили в советскую школу:
«Дай всем этим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново (интересно уже, что будет дальше? То-то же! — И. С), то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями всего человечества прежде, чем будет завершено…»
Далее Бунин добавлял от себя обреченно:
«Теперь эти строки кажутся уже слабыми».
Свинаренко: Бунин все понял и тут же отвалил — сперва в Москву, а оттуда через Одессу и в Париж. И тем не менее не думаешь ли ты, что все же надо детям давать и другой экспириенс, не только богатой жизни, но также и простой?
— Что, ходить вместе с ними косить? Куда?
— А как американские миллионеры на лето отправляют детей работать официантами? Ты знаком с таким опытом?
— Нет. В книжках читал, а в жизни не видел.
— А я видел. В Штатах — не тут, конечно.
— Тебе повезло…
Перестройка крепчала. Ускорение росло. Гласность зашкаливала. Даже Чернобыльскую катастрофу рассекретили через каких-нибудь пару недель. Но дружбу народов все еще усиленно пиарили — даже после «событий» в Алма-Ате, где казахи били русских.
Событие года — Сахаров вернулся в Москву… Может, это и было точкой невозвращения: отец водородной бомбы, он же главный диссидент страны, выпущен на волю и предъявлен легальной прессе. Вот она, вседозволенность! Где белое, где черное, кто друзья, а кто враги — не понять. Все смешалось в доме Облонских. Так гибнут великие царства. Sic!
Бутылка пятая 1986
— Сначала, Алик, давай ты рассказывай про свою жизнь.
— Я продолжал писать диссертацию.
— А чё-то ты ее долго писал! Уже которую главу подряд ты мне про нее рассказываешь!
— Писал, сколько положено, — три года. С 83-го по весну 86-го. А где-то в феврале 87-го я защитился.
— Ну, и какие открытия ты сделал в своей диссертации? Для науки, для страны?
— А в кандидатской не надо делать открытий.
— Да ладно!
— Достаточно новизну продемонстрировать.
— Что, любой долбоеб может сесть и написать диссер и защитить?
— Конечно, если есть какая-то новизна.
— Достаточно, значит, написать то, чего еще не писали до тебя.
Мы, репортеры, это делаем каждый день!
— Да, да… В этом смысле мы все кандидаты наук. Но не надо утрировать; все-таки написать диссертацию — это непростая работа!
— А, ну да, кандидатский минимум сдать по научному коммунизму!
— Например. Минимум надо сдать по философии…
— Марксистско-ленинской.
— Нет, по всей.
— Ладно — по всей!
— Я тебе клянусь! Как сейчас помню, Аристотеля мы учили и Маха, и бритву Оккама…
— Давай про бритву расскажи.
— Это принцип экономии мышления. Ну, грубо… если есть возможность доказать некий постулат несколькими способами, то самым истинным признается тот, что короче. Зачем объяснять сложно, если можно объяснить просто? Был такой Оккам, и он говорил, что все лишнее надо отсекать.
— А вот Лев Толстой, видно, до Оккама работал.