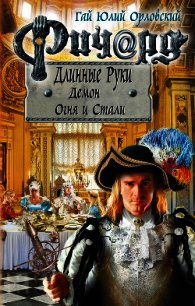Прощание - Смирнов Олег Павлович (читать книги без txt) 📗
– Говорю, что хочу. А учить меня – сопливый… – Он начал нехотя подыматься, но татуированный кулак сшиб его. Заверещав, связист вскочил, кинулся к обидчику. Ударом сапога в пах скрючил того, вторым ударом опрокинул на траву. Кто-то закричал, набросился на чернобрового, и он закричал, отбиваясь. Ворота распахнулись, часовой вскинул автомат: «Цурюк!» [2] – и очередь протарахтела. В воздух. Но дравшиеся сыпанули в разные стороны. Часовой ухмыльнулся, погрозив кулаком, закрыл ворота. Во дворе стало тихо-тихо. Потом из-за той же яблони прохрипели:
– А ежели б вдарил по нас, в гущину, а?
Никто не ответил. Зато стал слышен плач: непривычный, мужской. Плакал чернобровый связист, и это вызвало у Скворцова не жалость, а ожесточенность: иуда, предатель, слюни распускаешь, разжалобить хочешь – не выйдет. Придушить бы тебя, будь хоть немного сил. На губах горчило, как от полыни. И будто полынная горечь проникла в сердце. Горько видеть, что творится вокруг, горько слышать слова слабости, неверия, предательства. Никогда бы не подумал, что могут найтись такие – в армейской форме, – кто готов смириться с пленом, стать рабом фашистов. И как все расползлись, когда часовой дал вверх очередь…
На яблоневую ветку сел воробей – завертелся, засуетился, чистя клювом перышки, охорашиваясь. И Скворцов вспомнил: Женя, охорашиваясь, говорила: «Почищу перышки». А он смотрел при этом на ее кудри, на загорелые руки. Когда это было? Теперь Женя далеко, хотя, быть может, всего лишь в соседнем селе. И Ира с Кларой далеко – на свободе. Правильно он настоял, чтоб они ушли с заставы. Воробей чирикнул, вспорхнул, и Скворцов подумал: «Да, все правильно, женщинам – женская доля, мужчинам – мужская. Пусть у наших женщин все обойдется, пусть их доля будет не чета нашей…» Скворцов будто подремывал, а скорей всего на какое-то время сознание туманилось. Солнце жгло, все жались к подбеленным стволам яблонь, слив и груш, в их скудную тень. Воняло загноившимися ранами, калом и мочой – оправлялись здесь же, в углу. За оградой изредка тарахтели мотоциклы, пылили армейские повозки, запряженные битюгами; прохаживался часовой, близко к проволоке не подпускал, щелкал затвором: «Цурюк!»
Иногда ворота открывались и впускали во двор новых пленных – по два, по три, а то и больше. Пехотинцы, артиллеристы, саперы, один старший сержант даже с голубыми авиационными петлицами. А с зелеными – пограничников – не было. Двор набивался все гуще, солнце жгло все немилосердней. Ни пить, ни есть не давали. Забыли немцы, что мы еще живые? Обращаться к часовому остерегались: резанет, с него станется, очередью. Вполголоса кляли фашистов, вполголоса надеялись, что наши долбанут и вызволят; чернявый связист, наученный горьким опытом, помалкивал, но его молчание говорило: нет, братцы, на наших нечего надеяться, вся надежда на немцев, люди же. Унизительно было слушать и приглушенные голоса и молчание чернявого. И Скворцов думал, что надеяться нужно на самого себя. Бежать, Лобода, бежать!
2
Назад! (нем.)