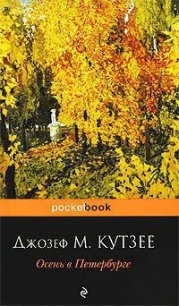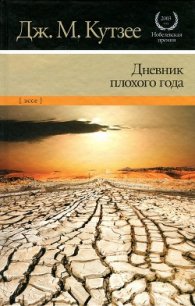Осень в Петербурге - Кутзее Джон Максвелл (книги без сокращений .TXT) 📗
Его товарищ зевает, и безразличие, выказанное этим зевком, похоже, выводит Нечаева из себя.
— Именно так! Потому нам и приходится подталкивать их. Если их оставить в покое, они непременно съедут к болтовне и препирательствам, а в итоге все пойдет прахом. Вот и пасынок ваш был таков же, Федор Михайлович,
— все сплошь разговоры и ничего больше. Страдающий народ не нуждается в разговорах, ему подавай действия. И задача наша — побудить студентов к действию. Если нам удастся спровоцировать их на решительные действия, можно будет считать, что бой мы наполовину выиграли. Разумеется, их могут раздавить, может подняться новая волна гонений, но это создаст лишь новые страдания, новый прилив гнева и новую потребность в действии. Именно так дело и делается. И опять же, если страдают немногие, то разве справедливость не требует, чтобы пострадали все? Да и события начнут ускоряться. Вы удивитесь, как быстро способна подвигаться история, если ее как следует подтолкнуть. Исторические циклы будут все более сокращаться. Если мы начнем действовать сегодня, мы и оглянуться не успеем, как уже окажемся в будущем.
— Стало быть, подлог позволителен? Все позволительно?
— А как же? Эка новость! Ради будущего позволено все, это вам даже верующие люди скажут. Не удивлюсь, если и в Библии так написано.
— Определенно не написано. Так говорят лишь иезуиты, а им прощения не видать. И вам тоже.
— Прощения? Как знать? Однако речь у нас шла о прокламации, Федор Михайлович. Кого так уж заботит ее автор? Слова что ветер — сегодня здесь, завтра там. У них нет хозяина. Мы с вами говорим о толпе. Вам ведь случалось, наверное, оказаться в толпе? Толпу тонкости насчет авторства не интересуют. У нее нет разума, одни лишь страсти. Или вы подразумевали нечто иное?
— Я подразумевал, что если вы сознательно причините страдания несчастным детишкам, ютящимся здесь за стеной, то вам никогда не будет прощения.
— Сознательно? Но что значит «сознательно»? Вы говорите о том, что происходит в человеческом разуме. А история творится на улицах. И не указывайте мне, что-де высказанное мною только что представляет собою идею, порожденную разумом. Это всего-навсего уловка, еще один хитроумный приемчик спорщика, как раз такими и сбивают с толку студентов. Я не какие-то там идеи высказываю, да хоть бы и идеи — это в счет не идет. Идеи у меня могут быть сейчас одни, а через минуту другие, но пока я действую, идеи мои гроша ломаного не стоят. Народ-то действует. Да к тому же вы и не правы. Вы даже в любезной вам теологии как следует не разобрались. Приходилось ли вам слышать о хождении Богородицы по мукам? Назавтра после судного дня, в который все разрешится и запечатлеются врата адовы, Богородица покинет свой небесный престол и спустится в ад, чтобы молить о милости к душам проклятых. Она преклонит колена и не встанет, покамест Бог не смилостивится и не дарует прощение всем, даже атеистам, даже хулителям Его. Так что сами видите, вы противоречите и тому, что написано в ваших же книгах.
В глазах Нечаева пылает торжество победителя.
Прощение всем. От одной этой мысли голова его начинает кружиться. «И соединится отец с сыном». И пусть слова эти исходят из грязных уст святотатца, разве не может сказанное им оказаться истиной? Кто вправе указывать Богородице, где дозволено Ей учредить дом Свой? И если Христос сокровенен, разве не может Он укрываться здесь, в этом подполье? Разве не может Он в самую эту минуту таиться в младенце у груди женщины за стеною, в девочке с угрюмым, все понимающим взглядом, в самом Сергее Нечаеве?
— Вы искушаете Бога. И если вы рассчитываете сыграть на милосердии Божием, вы проиграете наверняка. Даже до мысли такой не допускайте себя — прислушайтесь к словам моим! — иначе погибнете.
Голос его столь сдавлен, что слова эти еле слышны. Товарищ Нечаева впервые поднимает голову, с любопытством вглядываясь в него.
Словно учуяв его слабость, Нечаев снова переходит в наступление, выматывая его, будто гончий пес.
— Восемнадцать столетий прошло с века Господня, почти девятнадцать! Мы стоим на пороге нового века, в котором никакая мысль не будет запретной. Нет ничего, о чем мы не вправе подумать! И уж конечно вы это знаете! Должны знать — ваш же Раскольников рассуждал об этом в написанной вами книге, пока его не свалила болезнь.
— Вы безумны, вы просто не умеете читать, — бормочет он. Но он потерпел поражение и хорошо это сознает. Он потерпел поражение в споре, оттого что сам не верит себе. А не верит себе оттого, что потерпел поражение. Все рушится: логика, доводы разума. Он глядит на Нечаева и видит лишь кристалл, мерцающий в пустыне — замкнутый в себе самом, несокрушимый.
— Будьте осторожны, — говорит Нечаев, грозя ему пальцем. — Тщательнее выбирайте слова, говоря обо мне. Я человек русский, и, называя меня безумным, вы утверждаете, будто и Россия безумна.
— Браво! — восклицает товарищ Нечаева и с вялой издевкой бьет в ладоши.
Он предпринимает последнюю попытку как-то встряхнуться.
— Пустое, это всего лишь увертка софиста. Вы только часть России, и безумия ее только часть. Я — тот человек, — он прижимает руку к груди и тут же, устыдясь аффектированности жеста, опускает ее, — тот, кто несет в себе безумие. Это моя участь, мое бремя, не ваше. Вы еще слишком юны, чтобы не сломаться под ним.
— И опять-таки браво! — снова прихлопнув в ладоши, восклицает товарищ Нечаева. — Тут он тебя поймал, Сергей!
— И оттого я предлагаю вам сделку, — спеша продолжает он. — Я напишу кое-что для вашего станка. Я напишу правду, полную правду, уместив ее, как вы пожелали, на одной странице. Мое условие таково, чтобы вы напечатали эту правду в собственном ее виде, не изменив в ней ни слова, и послали на улицы.
— Договорились! — Нечаев положительно светится от торжества. — Вот это по мне! Дай ему перо и бумагу.
Незнакомец накрывает наборный столик доской, кладет поверх лист бумаги.
Он пишет:
«В ночь 12-го октября, в год Господа нашего 1869-й, мой приемный сын Павел Александрович Исаев разбился насмерть, упав с дроболитной башни, что на Столярной набережной. Распространились слухи, будто в смерти его повинно Третье отделение. Слухи эти представляют собою лживые измышления. Я уверен, что сын мой был убит его вероломным другом Сергеем Геннадиевичем Нечаевым.
Бог да смилостивится над душою его.
Ф. М. Достоевский.
18 ноября 1869».
Ощущая легкую дрожь, он вручает листок Нечаеву.
— Превосходно! — говорит Нечаев, передавая листок товарищу. — Истина, какой ее видит слепец.
— Печатайте.
— Набери, — приказывает Нечаев.
Товарищ Нечаева смотрит на него твердым вопрошающим взглядом.
— Это правда?
— Правда? Истина? Что есть истина? — взвизгивает Нечаев столь пронзительно, что весь подвал начинает звенеть. — Набирай! Мы и так потратили много времени!
И в этот миг он понимает, что попал в западню.
— Позвольте, я кое-что изменю, — говорит он и, получив листок, сминает его и сует в карман. Нечаев не пытается ему помешать.
— Поздно, поздно, слово не воробей, — говорит он. — Вы написали это при свидетеле. Мы напечатаем написанное вами, как и обещали, слово в слово.
Западня, адская западня. Стало быть, он вовсе не тот, за кого себя принимал, — не человек, неожиданно вышедший из кулисы, чтобы вмешаться в распрю между пасынком своим и анархистом Сергеем Нечаевым. Смерть Павла была всего лишь приманкой, позволившей завлечь его из Дрездена в Петербург. Его выманили из укрытия, и теперь Нечаев держит его за горло.
Он разъяренно глядит на Нечаева, но тот неколебим.
17
Низкое солнце плывет в бледном безоблачном небе. Выйдя из муравейника переулков на Вознесенский проспект, он закрывает глаза; головокружение, норовящее свалить его с ног, возвращается вновь, так что он почти сожалеет об отсутствии направляющей руки и повязки на глазах.