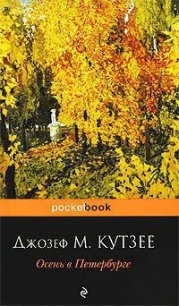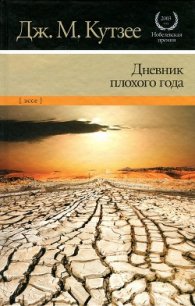Осень в Петербурге - Кутзее Джон Максвелл (книги без сокращений .TXT) 📗
Отчаяние. Отчаяние преданного человека, отчаяние человека, узнавшего, что это отец предал его.
— Быть может, полиция и не способна ничего доказать, но она знает, как знаем и мы с вами, что вы далеко не невинны. Вы ведь не просто списочек составили, вы пошли дальше, верно? У вас руки в крови, не так ли? Я не прошу вас исповедаться мне. И все же, в самом что ни на есть предположительном смысле, зачем вы делаете это?
— В предположительном? Затем, что, если ты никого не убил, тебя и всерьез никто не примет. Это единственное идущее в счет доказательство серьезности твоих намерений.
— Но для чего вам нужно, чтобы вас принимали всерьез? Почему не оставаться сколь можно дольше молодым и беспечным? Настанет еще и для серьезности время. И задумайтесь наконец о тех из ваших товарищей, кто послабее, кто совершает ошибку, доверяясь вам. Подумайте о вашей чухонской подруге, о том, что ей в итоге приходится сносить в самую эту минуту.
— Да хватит вам тянуть все одну и ту же волынку о моей так называемой чухонской подруге! О ней позаботились, она больше не испытывает страданий! И что вы мне предлагаете — ждать, когда я состарюсь и меня станут наконец воспринимать всерьез? Я уже насмотрелся на то, что происходит с вами, состарившимся. Когда я постарею, это буду не я, а другой человек.
Подобные речи он мог бы представить слетающими с уст Павла, но никак не Нечаева. Павел, Павел, какая потеря!
— Жаль, что мне не довелось увидеть вас с Павлом, — говорит он, не досказывая главного: вы похожи на два меча, на два оголенных меча.
И однако ж как умно предостерег его Нечаев от жалости! Ибо он совсем уж было проникся ею — жалостью к одинокому мальчику в бурном море, борющемуся и тонущему. Стало быть, он ошибся, усмотрев в угрюмости Нечаева (ибо Нечаев, как ни странно, примолк), в его задумчивом взгляде нечто напускное, в нем есть и иное качество — вероломство? Да и когда в последний раз мог человек довериться словам, будто бы идущим от сердца к сердцу? Нынче настал век действия, век обмана. Павел был слишком юн, слишком старомоден, чтобы преуспеть в этом веке. Герой и героиня его изъясняются на нелепом, запинающемся, устарелом языке души. «Я хочу… хочу…» — «Ты можешь… можешь…». И все же Павел хотя бы попытался перевоплотиться в другого человека. А Сергея Нечаева представить писателем невозможно. Эгоист, если не хуже. И любовник жалкий, это наверное. Без чувства, без сострадания. Незрелость чувств, остановка в росте, карлик. Человек будущего, грядущего века: чудовищный разум, чудовищный аппетит — и все. Замкнутый, одинокий. Настоящее его место — престол посреди голой комнаты. Престол идей. Римский папа идей, и идей прескучных. Бог да спасет тогда верующих, Бог да спасет тех, над кем властвует он!
Мысли его перебивает какой-то лязг, долетающий с лестницы. Нечаев бросается к двери, прислушивается, выходит. Слышится, гневный шепот, звук поворачиваемого в замке ключа, затем наступает тишина.
Женщина, так и не снявшая белой шляпки, сидит на краю лежанки, кормя младшего из детей грудью. Встретившись с ним взглядом, она краснеет, но тут же вызывающе вздергивает подбородок.
— Господин Ишутин сказал, что вы можете нам помочь, — произносит она.
— Господин Ишутин?
— Господин Ишутин, ваш друг.
— Не знаю, почему он так сказал? Ему мое положение известно.
— Нас выбросили на улицу, потому что нам нечем было платить за квартиру. То есть за нонешний месяц я деньги внесла, а за прошлые не смогла, не хватило.
Малыш отрывается от груди и начинает ерзать, стараясь высвободиться из рук матери. Женщина отпускает его, он сползает с ее колен и покидает комнату. Слышно, как он, негромко постанывая, мочится под лестницей.
— Он вот уже несколько недель болеет, — жалуется женщина.
— Покажите мне вашу грудь.
Женщина расстегивает еще пуговку и обнажает обе груди. Сосцы стоят на холоде торчком. Она приподнимает их пальцами, несильно сжимает. Появляется капелька молока.
У него при себе пять рублей, занятых у Анны Сергеевны. Он отдает ей два. Она молча берет монеты, заворачивает их в носовой платок.
Возвращается Нечаев.
— А, вижу, Соня поведала вам о своих горестях, — говорит он. — Я подумал, что ваша хозяйка могла бы им как-то помочь. Она ведь женщина добрая, верно? Так говорил Исаев.
— И речи быть не может. Как я могу привести?..
Женщина — неужели ее и впрямь зовут Соней? — смущенно отводит взгляд. Платье ее из дешевой ткани в цветочек, для зимы решительно непригодной, застегнуто теперь на все пуговицы, до самой шеи. Ее уже начинает трясти от холода.
— Ну, об этом мы после поговорим, — обещает Нечаев. — Я должен показать вам станок.
— Станок ваш меня не интересует.
Однако Нечаев берет его за руку и, то подталкивая, то подволакивая, выводит из двери. И снова он удивляется своей покорности. Он точно впал в нравственную дрему. Что подумал бы Павел, увидев, как убийца его распоряжается отцом? Или это Павел, в сущности говоря, и ведет его? Печатный станок он узнает мгновенно — «Альбион-Бирмингем», брат печатал на таком же афишки и объявления. Какие уж там тысячи экземпляров — от силы две сотни в час.
— Источник энергии каждого автора, — произносит Нечаев, прихлопывая ладонью по станку. — Сегодня ваше заявление разойдется по подвалам, а завтра появится на улицах. Или же, коли желаете, мы попридержим его до времени, когда вы окажетесь за границей. И если вас станут упрекать за него, вам будет легко отпереться — скажете, что это подделка. Да оно к тому времени и не важно будет — дело-то уже сделается.
В комнате присутствует еще один человек, годами старший Нечаева, — сухопарый темноволосый мужчина с землистым лицом и тусклыми глазами, согнувшийся над наборным столиком, подпирая подбородок ладонями. Человек этот словно бы не обращает на вошедших внимания, да и Нечаев его не представляет.
— Мое заявление?
— Ну да, ваше заявление. Любое, какое вам будет угодно сделать. Хотите
— напишите его прямо сейчас, меньше уйдет времени.
— Но что, если я захочу сказать правду?
— Даю вам слово, мы распространим все вами написанное.
— Правда может оказаться для вашего станка непосильной.
— Что ты к нему пристал, — подает голос мужчина, не отрывая глаз от лежащей перед ним рукописи. — Он же писатель, они так не работают.
— И как же они, по-твоему, работают?
— У писателей есть свои правила. Они не могут писать, если кто-то заглядывает им через плечо.
— Так пусть привыкают к новым правилам. Уединение — это роскошь, без которой вполне можно обойтись. Народ в уединении не нуждается.
Нечаев, получивший новую аудиторию, на глазах обретает прежнюю свою повадку. Его же начинает уже мутить от этих корявых провокаций.
— Мне нужно идти, — вновь говорит он.
— Не напишете сами, так мы за вас напишем.
— Как вы сказали? Напишете за меня?
— Да.
— И подпишете моим именем?
— И подпишем — выбора у нас нет.
— Ни один человек не примет написанного вами за чистую монету. Вам никто не поверит.
— Студенты поверят, я говорил уже — у вас немало поклонников среди студентов. В особенности среди тех, кто пытается думать самостоятельно, не читая толстенных книг. Студенты вообще способны поверить во что угодно.
— Да брось ты, Сергей Геннадиевич, — произносит мужчина. Судя по тону его, разговор не доставляет ему удовольствия. У него темные круги под глазами, он закуривает папиросу и нервно затягивается. — Чем тебе книги-то так уж не угодили? Да и студенты тоже?
— Того, что нельзя сказать на одной странице, говорить вообще не стоит! И затем, почему это одни люди купаются в роскоши и читают книги, в то время как другие читать и вовсе не умеют? Думаешь, у Сони, вон там, за дверью, есть время для чтения? А студенты твои слишком много болтают. Сидят часами, спорят и только силы попусту тратят. Университет — это место, в котором человека учат спорить, чтобы он после ничем уж другим и не занимался. Они вроде Самсона, которому евреи отрезали волосы. Думают, будто им удастся улучшить своими разговорами мир. Им невдомек, что улучшить можно лишь то, что сначала ухудшилось.