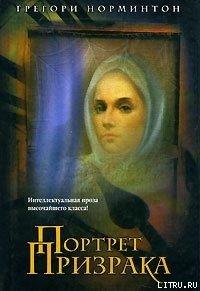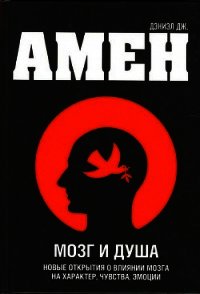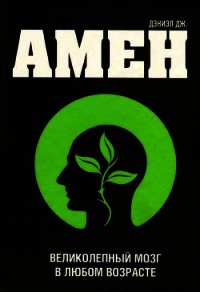Чудеса и диковины - Норминтон Грегори (книги без сокращений .txt) 📗
– Так что ты там делал? – спросил он, пока я пробирался мимо его собак (Брут и Ахилл не обратили на меня внимания, словно я был бесплотной тенью. Когда я стоял, их челюсти как раз доставали до моей глотки). Томмазо, я просто шокирован. Я подумал, что ты попрошайничаешь.
– Нет, дядя.
– Ты что-то рассматривал. На что ты смотрел? Ты ведь не дурачок, а?
– Это…
– Ты понял вопрос?
– Я смотрел на…
– Мы не можем позволить тебе болтаться по городу, как какому-то недоумку.
Умберто почувствовал мой испуг и сбавил тон, велел мне сесть. Я съежился на самом краешке полированного стула. Псы позади меня тяжело дышали, вывалив влажные языки.
– Томмазо, прочти это. Скажи мне, что ты видишь.
Схватив очинённое перо, он нацарапал что-то на уголке пергамента. Потом показал мне несколько слов. Я понятия не имел, что они означали.
– Фильо, Томмазо.
– Фильо?
– А это?
Я уставился на вторую краказябру. Она напоминала оскаленные зубы.
– Ты что, правда не понимаешь? – изумился дядя, откидываясь назад в своем кресле. – Ни единого слова?
– Я знаю, что означает слово «сын».
– Но читать ты не умеешь.
– Если вы прочтете, я пойму, что тут написано.
Так раскрылась моя неграмотность – довольно распространенное состояние для того времени. Но я происходил из образованной, культурной семьи, и мне не пристало уподобляться дремучему простонародью. Умберто, подергав себя за бороду, принял решение.
– – Мой долг перед твоей почившей матерью вынуждает меня действовать. – В конце концов, я был сыном его умершей сестры. И в семье меня воспринимали как плохую картину, созданную впавшим в маразм великим мастером. – Будешь приходить сюда каждое утро. Не в кабинет, а на первый этаж, в кухню. Там есть стол, он стоит чуть в сторонке, в нише. Света из окна будет достаточно. Я оплачу твое обучение. Когда увидишь отца, скажи ему.
Отец не обрадовался этой вести. Он ругал «этого пустобреха, который сует нос не в свое дело», моего благодетеля, и несколько дней хранил угрюмое молчание, что яснее всего говорило об уязвленном самолюбии. Тем не менее мне разрешили посещать уроки.
Я сидел на высоком стуле и болтал ногами. Моим учителем был молодой студиозус по имени Пьомбино, бледный и пахший застарелым потом и плохими зубами, а посему принимавший мои недостатки без жалоб и возражений. Он с величайшим терпением сражался с умом, уже лишившимся гибкости. Мне было трудно заучивать тексты наизусть; к примеру, чтобы справляться с буквами, мне приходилось представлять их живыми существами. «А» была глазом, смотрящим в бездну, строчная «б» – улиткой, карабкающейся на ветку, «С» походила на кошку, играющую со своим хвостом. Тот же способ помогал мне и с цифрами. Плывущий лебедь «2» преследовал самку, летящую «3». Ностальгическая «7», обращенная в прошлое, не замечала песочных часов «8» у себя за спиной. Особенно я гордился «присевшим» человечком «4», за которого меня регулярно ругали.
– Ты что, не можешь просто принимать вещи такими, какие они есть? – злился мой наставник. – Почему обязательно нужно, чтобы одно напоминало другое?!
И все же мне разрешили пользоваться этой странной мнемонической техникой собственного изобретения, и по прошествии года я уже рылся на дядиных книжных полках. Интеллектуальную пищу я оставил в стороне. Я забивал себе голову рыцарскими романами и историями; поглощал фантазии Морганте и Дони с жадностью, достойной (тогда еще не рожденного) рыцаря из Ламанчи. Флоренция стала местом моих игрищ, пропитанных духом прочитанных книг. Своих блестящих доспехами рыцарей я направлял в атаку по виа дель Корсо, спасал попавших в беду девиц на мосту Веккьо и селил драконов под огромным куполом собора.
Углубившись в такие фантазии, я и начал рисовать монстров. С полей моей тетради они заглядывали в каллиграфическую вязь: обезьяны с львиными гривами, кролики с ножками цикад, дикари с клыками размером с турецкие усы. Рисование было не развлечением, а настоятельной необходимостью. Так взошли всходы моих ранних блужданий. Поскольку раньше я восхищался насекомыми – пассивно, как зеркало, – теперь я решил запечатлеть результаты своих наблюдений. По сравнению с реальностью во всех ее сумасбродных и непостижимых деталях мои собственные «изобретения» казались скучными и неправдоподобными. Несколькими искусными штрихами я изобразил моего учителя, упершегося подбородком в кулак; нарисовал, как его нижняя губа выпирает вперед во время проверки решенных мною задач. Я внимательно изучил его большие уши, которые рьяно рвались вперед, словно соревнуясь с моими глазами в наблюдении за миром. Сказать по правде, подобные мелочи интересовали меня сильнее, чем единое целое (уникальность которого, в конце концов, как раз и складывалась из этих деталей), и вскоре моя тетрадь превратилась в мясной склад, набитый ампутированными частями тела: ушами, носами, отрезанными руками и вырванными глазами.
Однажды утром, через неделю после моего (никем не отмеченного) десятилетия, мое тайное увлечение было раскрыто. В конце необычайно утомительного урока алгебры, когда я пытался зарисовать, как мой наставник держит перо (побелевшие ногти, трехпальцевый захват), он меня и поймал. Он выхватил у меня из рук компрометирующий листок.
– Так вот чем ты занимаешься вместо того, чтобы работать!
К моему вящему ужасу, он принялся рассматривать рисунок, поднеся его к свету. Раздражение сменилось потрясенным молчанием. Я скрипнул стулом, и учитель взглянул на меня. Потом он взял мою тетрадь и принялся медленно ее пролистывать.
– Это?… Томмазо, отвечай мне честно.
– Да, господин учитель.
. – Это все нарисовал ты сам?
– Да, господин учитель. Простите меня.
– Я имею ввиду… э… отец тебе не помогал?
Вопрос поверг меня в замешательство; мой рот превратился в убежище для мух.
– Томмазо, – заключил мой учитель, – я забираю твою тетрадь. – Мне было сказано идти домой и ждать, пока меня не позовут. Слезы не помогли. – Давай, давай, парень. И не лодырничай, потому что я все равно все узнаю,
С ногами, словно налитыми свинцом, завывая, как пес на луну, я пошел в сторону лестницы. Но мой учитель не смог дождаться, пока я завершу свой скорбный поход. Он пронесся мимо меня, зажав в руке трепещущую тетрадь.
– Кыш отсюда! Иди, иди! Мы с твоим дядей подойдем позже.
О как я кусал локти по дороге домой. Подумывал даже зайти в собор и помолиться о Божественном избавлении. Но, как и большинство грешников, толпящихся пред вратами Ада, я согрешил слишком тяжко, чтобы надеяться на прощение.
Отцовский дом встретил меня молчанием. Трепеща в ожидании предстоящей бури, я скрылся в своей спальне, где самодовольные деревянные игрушки (деревянные лошади и солдатики, давний подарок семьи Раймонди) отнеслись ко мне без всякого сочувствия. Я устал от рыданий и, видимо, заснул, потому что, проснувшись от стука в дверь, увидел на стене едва различимый серый прямоугольник вечернего неба. Меня разбудила очередная няня. Потрясая своими бессчетными подбородками, она сообщила, что в мастерской меня ждет отец.
Они выстроились у стены, три фигуры из разных этапов моей жизни, совершенно не сочетавшиеся друг с другом. Мой наставник (подлый доносчик) держал тетрадь у паха. Мой отец, еле стоявший на ногах после долгих часов работы, смотрел на меня как-то странно.
– Подойди, – сказал дядя. – Садись.
Рядом стояли стол и стул. На столе лежал лист бумаги и три угольных карандаша.
– Возьми уголь.
Учитель поставил на край стола бюст Гомера. Мой отец менее уверенно установил рядом с бюстом чашу с виноградом, персиками и бархатистыми абрикосами. Он выпрямился и отошел, даже не взглянув на меня.
– Итак, мальчик мой, – сказал Умберто. – Мы хотим, чтобы ты нарисовал эти предметы, которые видишь перед собой, и чтобы вышло похоже.
Я выбрал самый тонкий карандаш. И сделал, что мне велели. Слепой Гомер в своем бумажном окне принюхивался к вазе с фруктами. Он не видел, как видел я, глубокого шрама на одной виноградине, сладких потеков под ней; не видел мягкого синяка на бордовом персике. Покончив с фруктами, я полностью погрузился в вычерчивание сложного орнамента чаши, и в это мгновение мой отец испустил сдавленный крик. Он выхватил лист прямо из-под карандаша, который оставил на рисунке черную линию.