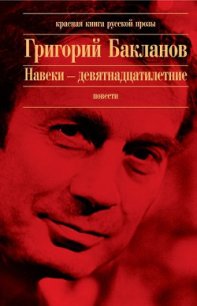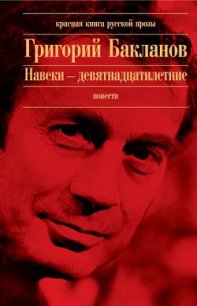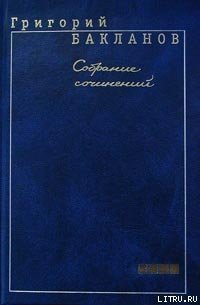Свой человек - Бакланов Григорий Яковлевич (е книги TXT) 📗
В Комитете груда дел накопилась, груда бумаг. Он отобрал срочные, среди них — список труппы, отъезжающей на гастроли за рубеж. Молодой человек, взятый на место Панчихина, так же, как тот, бывало, дисциплинированно стоял справа от стола. Одна фамилия в списке насторожила, что-то с ней связано. Евгений Степанович посидел с закрытыми глазами, и вдруг вспомнилось ярко: лет восемь назад, тогда еще, кажется, в Театре сатиры смотрел он «Доходное место», и вот этот артист, в ту пору молодой, произносил свой яростный монолог против доходных мест и так разошелся, что пот брызгал с лица, когда он встряхивал волосами, казалось, добрызнет до второго ряда, где сидел Евгений Степанович. Подумалось тогда: этот разнесет, дай волю таким, камня на камне не оставят. И вновь обретшей силу, недрогнувшей рукой Евгений Степанович жирно вычеркнул его фамилию из списка.
Вечером, зажав в кожаной перчатке свернутый поводок, он гулял с Диком. В подъезде не работал код, а кнопка лифта на нижнем этаже была вся закопченная, опять мальчишки поджигали спичками.
«Безобразие! Надо сказать Елене, чтоб завтра же потребовала исправить и восстановить». А еще два дня назад, заметив, что боковое стекло двери подъезда выбито, осыпалось под ноги, он переступил и мысленно махнул на это рукой: пусть рушится. Теперь все вновь обретало в его глазах и цену, и смысл.
За высокой сеткой посреди двора, на хоккейной площадке, под гирляндой электрических лампочек носились по льду мальчишки с клюшками, пушечными ударами била шайба в деревянные борта. Дик пугался, терся о его высокие меховые ботинки, отбегал, возвращался, и Евгений Степанович, похаживая, постегивая себя поводком по лампасу тренировочных штанов, чувствовал себя исцелившимся и духом, и телом.
Глава XVIII
Был особый смысл и особое значение в том, что первоначально премьеру назначили на 21 января: ленинская тема, подарок к дате. На это и выманивали Леонида Ильича, и он, заядлый болельщик, пожертвовал хоккейным матчем, отменил матч «Спартак» — ЦСКА, которого ждали телезрители, не говоря уже о тех, кто купил билеты на стадион. Высочайшее посещение в такой день могло быть приравнено разве что к возложению венков к Мавзолею, и уже самим этим фактом спектакль заранее был обречен на успех, а там и Государственная премия, а может, и повыше… Ведь ленинская тема.
Евгений Степанович только примерно догадывался, какие силы задействованы, как и через кого побуждают Леонида Ильича, физически немощного, глуховатого, освятить своим присутствием спектакль, в котором и ему отведена роль. Вот это бы объяснить, вот это довести до сведения! Но Евгений Степанович, все взвесив и здраво рассудив, помня принцип — не смог задушить, обними, подавал доброжелательные сигналы драматургу и режиссеру: они вполне могут рассчитывать на его содействие, они не забыли, конечно, он первым предрек успех.
3 марта стояли, перегородив движение по Тверскому бульвару, офицеры милиции в чине капитана, надо полагать, и комитетчики были среди них в милицейской форме, махали полосатыми жезлами, отмахивая все движения в улицу Герцена, в улицу Воровского — к Садовому кольцу. За ними проглядывали и майоры, и даже полковники похаживали, наблюдая порядок.
Прошла машина какого-то посла, незнакомый трехцветный флажок трепыхался на ее крыле, следом беспрепятственно пропустили машину Евгения Степановича. И, пока он поднимался по припорошенным снегом ступеням, стягивая с руки кожаную перчатку, каждым шагом самоутверждаясь, внизу подкатывали и отъезжали машины, распахивались и захлопывались дверцы — большой сбор приглашенных. И опять, как тогда, было много военных с орденскими колодками, в высоких званиях, и дамы с нитками жемчуга на шеях, и штатские, уверенные в себе люди. Он узнавал, его узнавали, он был в своей среде, в привычной обстановке равных и высших, где всегда есть возможность провентилировать вопрос, перемолвиться о деле и решить в двух словах то, что путем служебной переписки месяцами не решается. В таких разговорах и благоприятное впечатление можно произвести, и перспективы возникают, когда собираются сильные мира сего. А внизу, на морозе, наряды милиции все так же перегораживали пространство от Никитских ворот до площади Пушкина.
Среди прогуливающейся в фойе публики увидел Евгений Степанович, как выстроилось полукругом человек шесть, и фотокорреспондент щелкал, щелкал, ослепляя вспышками улыбающиеся благополучные лица. Повлекло туда и Евгения Степановича, он почувствовал естественное притяжение, но дорогу загородила широким бюстом Маслакова, огромная дама из республиканского министерства. Она радостно несла какую-то чушь и поворачивалась, поворачивалась перед ним, не пропуская его. Только когда группа распалась и фотограф удалился, тогда только Евгений Степанович заметил на ее левой груди крошечный значочек, маленькую такую двухцветную книжечку. Вот что она демонстрировала: она стала депутатом райсовета! Боже мой, иметь такие природные данные, такой роскошный бюст, а гордиться такусеньким значочком…
В зале уже рассаживались в креслах, сдержанный гул голосов, мелькали программки, во всем предощущение значительности события. И когда осветилась главная ложа и стали появляться в ней — сначала он, следом все остальные, — зал встал и, стоя, аплодировал, как в былые времена. Пять Золотых Звезд Героя — слева, четыре золотые лауреатские медали — справа, а больше никаких знаков отличия на нем не было. За его плечами виднелись из мрака косые монгольские скулы Черненко, постное лицо Гришина, будто этот человек одним диетическим творогом питается, Соломенцев вовсе без глаз, и еще, и еще, все они выпускали вперед, к народу его, сопровождая в спину поощрительными улыбками и аплодисментами: играли царя.
Место Евгения Степановича на этот раз было близко, он мог, как никогда, разглядеть Брежнева, лицо его, похожее уже на огромную маску: знаменитые брови, слезящийся невидящий взгляд, обвислые щеки и рот, жующий вставные челюсти. Но сквозь золотистый розовый туман видел он то, что жаждал видеть, он видел былое величие и в умилении, в общем восторге радостно бил в ладоши вместе со всем залом. И даже слезинку навернувшуюся сморгнул. А когда наконец все уселись (сначала в ложе, потом в зале), когда и спектакль начался, из зала еще долго нацеливали бинокли, передавали из рук в руки, перешептывались, пересказывали, кто где сидит, переспрашивали. И уже Ленин появился на сцене, знакомо жестикулировал, сияла его лысина, а в зале все еще непочтительно слышался шепоток. И тут из ложи раздалось глухо, как из бочки:
— Это Ленин. Будем приветствовать…
Евгения Степановича холодом обдало, сидел, боясь голову поворотить. Но боковым зрением видел, как над барьером ложи белые руки беззвучно и медленно похлопали устало несколько раз, и за ними, в глубине еще чьи-то ладони смыкались и размыкались, смыкались и размыкались. И мясистая его соседка в ярко-синем платье с блестками послушно захлопала, блестя множеством колец, но муж дернул ее за руку.
Тишина в зале настала полная. И в этой чуткой тишине вновь раздалось утробно, глухо, будто он булыжники в своем рту перекатывал:
— Это про трудности…
Послышался несмелый смешок. Евгений Степанович оглянулся, безумная мысль пришла в голову: кто-то пародирует его голос. Не может быть, чтоб это происходило на самом деле, не может этого быть. Но лица соседей сделались безжизненно-официальными, они ничего не видели, не слышали, не присутствовали. И только сидевший впереди генерал с красным, обветренным, солдатским лицом оглядывался по сторонам простодушно. А зал замер, зал жадно ждал потехи. И уже смотрели не тот спектакль, что на сцене, а тот, что в ложе разворачивался. Оттуда раздавалось нечленораздельное:
— Хорошенькая… А это Хаммер. Живой. Поприветствуем…
И — смех, смех в зале, откровенный смех.
А он, не слыша своего голоса от глухоты, бухал громко, на потеху зала:
— Коль, скоро кончится?.. Коля, долго еще?..