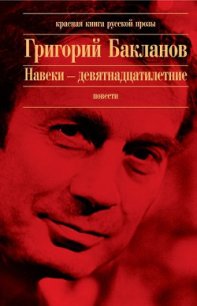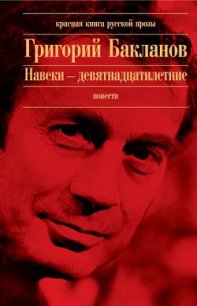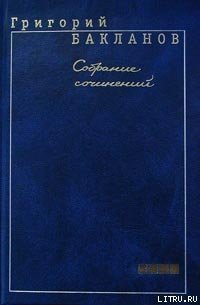Свой человек - Бакланов Григорий Яковлевич (е книги TXT) 📗
Чтобы не было пусто в доме, приятельница посоветовала Елене, даже связала ее по телефону, и они завели собачку, маленького щеночка, не безродную какую-то дворняжку, а редкостной породы, которая почти исчезла, как многое исчезло в России, а теперь начинала возрождаться вновь. Такие псы, совершенно черные, достигавшие больших размеров, были, оказывается, еще у Юлия Цезаря, оттуда велась родословная, и многое в истории связано было с ними. Женщина, которая приходила убирать в доме — «убираться» — и кое-что делать по хозяйству, говорила, выгребая за ним из углов: «Кастит. А вот, носом, носом навтыкать его…» Но Елена, целуя щеночка в нос, заступалась трогательно: «Он еще мальчик. Он не понимает. Но он будет понимать. Правда, Дик, мы будем понимать? Ему предстоит такая мучительная операция: обрубать ушки. Зачем-то этой породе обрубают кончики ушей».
Как бывает с породистыми собаками, щенок переболел всеми мыслимыми болезнями, его возили к ветеринару, кормили особым способом, привозили ветеринаров на дом, и именно во время этих болезней они, сами того не ожидая, привязались к нему, как к ребенку, и, может быть, еще нежней: ведь он бессловесный, не может даже пожаловаться, сказать, где у него болит. Была одна такая ночь, когда оба не спали, верней, спали попеременно, решался вопрос его жизни и смерти.
В финской дубленке, не куртке и не длинном пальто, а удобной такой, до колен, в высоких меховых ботинках, в которые вправлены шерстяные тренировочные брюки с белыми кантами, в пушистой ондатровой шапке, поужинав и попивши горячего чаю, Евгений Степанович, весь согретый, выходил вечерами прогуляться с Диком. Свернутый поводок он держал в руке, в кожаной перчатке, а Дик бестолково рыскал по снегу, отыскивая свое дерево, около которого подымал ногу, и после, облегчившись, взбрыкивал и носился и почему-то облаивал непременно одного и того же соседа, если тот появлялся в пределах видимости, так что Евгению Степановичу даже пришлось извиниться. Была специальная площадка для выгула, но там обязательно кто-нибудь лез познакомиться, прилипал с разговорами: как же, такой замечательный повод, их собаки подружились, обнаружилось родство душ. Евгений Степанович любезно улыбался служебной улыбкой, ею он пользовался в тех случаях, когда просьбы оставлял без последствий. Гулять же предпочитал вдвоем с Диком, не чая, когда тот вырастет и превратится в здорового охранного пса. Да и было о чем поразмыслить.
Умер Суслов. И как раз в этот день Евгений Степанович с женой были приглашены на юбилейный банкет к весьма высокому лицу, никто же не мог знать заранее, что так совпадет. Специально шилось платье, из-за этого платья они в конце концов опоздали. Какие-то бретельки перекосились, что-то с корсажем не ладилось, какие-то застежки, приколки — черт их разберет! — Евгений Степанович нервничал, ждал, внизу ждала машина, а Елена все никак не могла справиться со своим туалетом. Ехали перессорившиеся, молча, злые.
— Вот видишь! — упрекнул он в гардеробе ресторана, где обычно встречают, а их уже никто не встречал — банкет начался.
Мимо свадеб, мимо вышедших курить в коридор разогретых, под градусом, молодых людей и намазанных девиц, мимо официантов с подносами спешили: Евгений Степанович — с подарком, Елена — с букетом цветов и приготовленной улыбкой. Издали было видно: двери зала «Зимняя сказка» распахнуты. Вошли — пусто, убирают со столов. Тут-то и узнали: умер Суслов. Оказывается, до последнего момента выяснялось, отменять, не отменять банкет, может быть, все-таки можно в несколько приглушенном виде, без музыки, без громких речей — юбиляр поистратился, понес большие расходы… Но то, что простительно рядовым гражданам, не может позволить себе лицо официальное: веселье в такой день будет расценено соответствующим образом и обойдется дороже понесенных трат.
Три стола, каждый — из многих столов, составленных под одну скатерть, упиравшихся в стол президиума с двумя микрофонами, — и все это сейчас разрушалось, уносили закуски, сворачивали скатерти, словно в белый саван заворачивали покойника, сматывали шнуры микрофона. И какой-то шутник, видя их, растерянно стоящих в дверях с букетом, возьми да и прокричи в еще не отключенный микрофон: «Ку-ку!» На весь пустой зал громко раздалось это дурашливое «Ку-ку!».
Возвращались, как с похорон. Если бы только банкет рухнул! Все, что выстраивалось долгими годами, могло сейчас рухнуть, все планы, вся дальнейшая жизнь, в которой все сцеплено, каждый за кого-то держится, каждого кто-то поддерживает. И поднималась в душе горькая обида: он целиком себя отдал Делу, всем пожертвовал, а теперь от того, кто придет на это высокое освободившееся место, зависит, будет ли солнце светить или ляжет на него тень. А эти, так называемые свободные художники, вольноотпущенники, как он их называл, еще и вздохнут с облегчением. Он тоже мог бы не хуже их создавать нетленки, художественный дар отмечали у него еще в школьные годы, но он всем пожертвовал!..
До поздней ночи ловил Евгений Степанович различные «голоса», держа у самого уха свой маленький, такой ладненький японский приемничек, изловчась и так и эдак, дурея от завывания глушилок. А эти сволочи прямым текстом вещали, что для неминуемо грядущих перемен в Советском Союзе смерть Суслова, его исчезновение с политической арены означает даже больше, чем если бы умер Леонид Ильич. Он не хотел перемен, он испытывал панический страх при одной мысли о возможных переменах. Ведь затопчут, затопчут со страстью, и первыми кинутся топтать те, кто преданней всех заглядывал в глаза, юлил у ног.
И все равно опять слушал, еще сильнее растравляя себя. Они высчитывали, каков средний возраст членов Политбюро, кому сколько осталось, будто без них не знают, кому сколько лет, у кого вшит, а у кого не вшит стимулятор. Это Кириленко объявил радостно (лучше б уж помолчал!), что средним возрастом отныне считать семьдесят лет, и вся пресса послушно обрадовалась: семьдесят лет, семьдесят лет! А снизу встречно пошли анекдоты. Как можно настолько не знать свой народ? Допустим, у нас не проводятся опросы общественного мнения, но есть же другие, надежные, выверенные десятилетиями способы узнать, кто что думает и говорит, есть, наконец, соответствующая техника; Евгений Степанович сам в открытой, не для служебного пользования, а в открытой печати прочел, что, если, например, на улице, в толпе вы разговариваете с приятелем и думаете наивно, будто среди общего шума и разноголосья ваш голос не услышат, вы глубоко ошибаетесь, уже есть, разработаны такие приборы, которые способны выделить ваш, именно ваш, если он понадобится, голос и записать все, что вы говорили. Евгений Степанович еще подумал, прочтя: это предостережение, это не случайно напечатано, очень уж поразвязались языки.
Но если известно, если знают, что и какую вызывает реакцию, должны же докладывать! А долголетний служебный опыт говорил: должны-то должны, да кто осмелится? Кто добровольно подставит шею под топор, когда с древности известно: гонцу, приносящему дурные вести, отрубают голову. Слушают то, что хотят слышать, — не дай Бог поучать, — и чем хуже идут дела, тем радостней должны звучать доклады, тот, кто докладывает угодное, обласкан и награжден. Да он и сам, провидя возможные выгоды, не раз докладывал то, что от него ждали, и это хорошо воспринималось. Но сейчас, когда все так опасно накренилось, когда может рухнуть, надо же что-то делать. Хватит нам революций, жизнь устроилась, есть связи, есть свои люди, случись что, тебя поймут и поддержат.
Трезво и горько обдумав все, он решил воспользоваться испытанным методом: лечь пока что на обследование, залечь, переждать. Сначала детальное обследование в больнице, потом реабилитация в доме отдыха санаторного типа, а за это время, глядишь, картина и прояснится. Тем более что при современных средствах связи и на отдалении находясь, можно держать руку на пульсе событий. Но не один он такой умный, его опередили, раньше догадался лечь на обследование председатель Комитета, старый носорог, на месте которого Усватов давно видел себя. Кабинет носорога был на шестом этаже, там он пожизненно сидел за огромным пустым столом в пустом кабинете. Евгений Степанович этажом ниже потихоньку подтачивал под ним устои, да разве подточишь, когда средний возраст — семьдесят лет… В связи с этим он достаточно прозрачно говорил не раз: не в том наша беда, что мы не в полной мере осуществляем второй постулат социализма — «каждому по его труду». Главная наша беда в том, что не хотим взять от каждого по его способностям. Ужасно, ужасно, когда способности не находят применения, когда человек делает дело ниже своего уровня. Увядает ум, отмирают нервные клетки. И это уже невосстановимо…