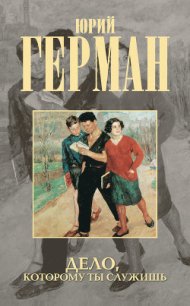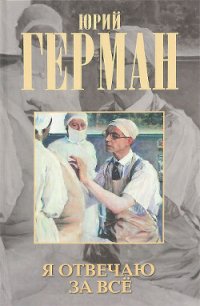Дорогой мой человек - Герман Юрий Павлович (читать книги регистрация txt) 📗
Но однажды произошел случай, о котором, правда, знали всего лишь два или три человека в Заснижье, но который тем не менее очистил имя странного немца от каких-либо подозрений в том, что он такой же негодяй, как все другие фашисты.
Вот как это произошло.
В ночь на девятое ноября в Крутом логу, что на окраине Заснижья, партизаны Лбова попытались взять «языка». Ночь была темная, холодная, с дождем и снегом, но дело у лбовцев не выгорело: немцы подняли батальон по тревоге, и партизанам пришлось уйти. Уходили они спехом и не подобрали своего Гришку Панфутьева, лихого парня, который с искореженной разрывными пулями ногой завалился без памяти в густой ельник на самой крутизне лога.
В самую темень, незадолго до рассвета, Панфутьев очухался и, сдавив зубы, чтобы не стонать и не выть от ужасной боли, на одной только «злости» добрался до задов села со стороны старой крупорушки. Тут в крайней избе проживала одна вдова, с которой у Панфутьева, как он выражался, были «некоторые взаимоотношения». И вдова спрятала своего милого в погреб, оказав ему неумелую, но посильную медицинскую помощь.
Связаться с партизанами она не могла. Да и вряд ли лбовцы ей бы помогли в те самые дни, когда батальон, испуганный внезапным появлением сильной группы партизан, тщательно и по-немецки педантично прочесывал все подходы к Заснижью. Дело же с ногой у Панфутьева шло не на поправку, а наоборот, к большой беде. Чубатый, бесстрашный и лихой Гришка помирал.
Тут вдова и приняла рискованное решение. Зная, что у Панфутьева есть граната и пистолет, и поделившись с ним своим планом, она перехватила Хуммеля, когда тот отправлялся на охоту, соврала ему, что у нее помирает «ребеночек», что у него «ножка загнила», и привела толстого, пыхтящего и хмурого доктора к себе в усадьбу. Немножко удивившись, что ребеночек в погребе, и сказав, что это «ошень некорошо, глюпо!», доктор тем не менее спустился по осклизлым ступенькам. По-русски, кстати, Хуммель понимал и даже немножко говорил с тех самых далеких времен, когда совсем молодым врачом был выгнан с Украины богунцами и таращанцами батьки Боженки и Щорса.
– Очень некорошо, глюпо! – повторил он, спустившись и, конечно, сразу догадавшись, в чем именно дело.
Гришка пьяными от высокой температуры глазами смотрел на немца. В руке у него был пистолет. Вдова взяла гранату.
– Вот так! – сказала она, не в силах более ничего объяснить.
Надо только себе представить лицо любящей женщины в такое мгновение.
Хуммель утер вспотевшее лицо, сел и, качая головой, вгляделся в своего необычайного пациента.
– Гросс малшик! – сказал не без юмора немец. – Колоссаль!
И ушел за инструментами, которые не мог просто взять, а должен был украсть – по причинам, о которых будет сказано ниже. И уйти к вдове ему тоже было не просто. А Панфутьев и вдова ждали – это тоже следует себе представить – эти несколько часов: он почти без сознания, и она с гранатой в руке.
Наконец немец явился. Гнойники он вскрыл успешно, во всяком случае Панфутьева переправили впоследствии на Большую землю в хорошем состоянии. После операции толстый немец несколько раз навещал своего больного, который теперь сам держал гранату и пистолет.
С этим своим пациентом Хуммель был куда ласковее, чем с прочими. Ему он говорил не раз: «Какой короши, рослий малшик! Шулунчик! Колоссаль!» А однажды посоветовал не играть с этими игрушками, они могут сделать «бух!»
– Ежели наведете на меня ваших сукиных детей, господин доктор, – без всякого юмора ответил Гришка, – таки сделаю «бух». И большой «бух». И себя не пожалею, имейте в виду.
– Глюпи болшой малшик! – сказал Хуммель. – Ошень!
Сукиных сынов толстый доктор не навел. И от двух великолепных курок, поднесенных ему вдовой, отказался, дав понять, и в грубой притом форме, что если он захочет, то сам заберет себе все село и вдову тоже.
Очень удивилась вдова, услышав это, так не похожее на толстого немца заявление, но потом вспомнила, "то при разговоре присутствовал фельдшер Хуммеля – стройненький, ясноглазый блондинчик, которого в селе боялись и ненавидели больше, чем всех других оккупантов: про него ходили слухи, что он ради забавы перестрелял немало народу.
Как впоследствии выяснилось, этого самого фельдшера и боялся доктор Хуммель – не без оснований при этом. Фельдшер Эрих Герц не раз доносил на своего шефа куда следовало и имел приказ откуда следовало – внимательно следить за доктором Хуммелем, так как у того был далеко не безупречный послужной список.
И Герц старательно следил.
История с Гришкой Панфутьевым проскочила мимо него, он ее прозевал, но нюхом почуял, что не только к детям ходил толстый доктор, а имело место нечто гораздо более существенное, такое, что донеси он об этом где следовало бы, его и заметили бы и отметили .
Ясноглазый фельдшер стал «копать». Полностью он ни до чего не докопался, но о слухах донес.
Хуммеля увезли в гестапо.
Он отверг все обвинения в помощи русским партизанам, что же касается детей, то он не отказывался: Да, виноват! Да, давал вакцину! Конечно, это скверно, но он с удовольствием оплатит вакцину из своих средств, пусть деньги пойдут в «зимнюю помощь». Он виноват, но достоин снисхождения страдания детей для него невыносимы.
Обер-штурмфюрер СС, молодой человек с превосходными манерами, внезапно спросил:
– А для чего, герр доктор, восемнадцатого ноября нынешнего года вы брали с собой на визитацию полевой хирургический набор? Кого вы оперировали? Поверьте, мне самому крайне неприятно это дело, я хочу его прекратить. Напишите мне объяснительную записку, мы проверим и не будем вас больше тревожить…
– Я не брал хирургический набор! – желтея под спокойным взглядом обер-штурмфюрера, ответил толстый Хуммель. – Это недоразумение!
Вот, в сущности, и все.
Предыстория на этом заканчивается.
Толстого доктора отпустили с таким напутствием?
– Мы не имеем формального права сейчас вас арестовать, герр доктор. Мы должны довести следствие до конца, и мы его доведем. Мы подвергнем особому допросу всех лиц, в самой отдаленной степени причастных к тем лицам, к которым вы были причастны. Понимаете мою мысль? Это будет как круги по воде, нас так учил рейхсфюрер СС Гиммлер. Очень хотелось бы, чтобы мы ошиблись, ибо случай этот беспрецедентный в имперской армии. Я сам не слишком верю в него – в этот предполагаемый факт. Но инструменты вы брали и оперировали ими – они до восемнадцатого еще ни разу не употреблялись. Может быть, вы сами сейчас скажете правду?
Хуммель ничего не сказал и уехал.
На следующий день солдаты СС увезли старого Левонтия. Обер-штурмфюрер не зря грозился кругами по воде. А что такое особый допрос, Хуммель знал. Десятки совершенно невинных людей могли погибнуть под чудовищными пытками. Беспрецедентный случай с военным врачом Хуммелем, изменником и большевиком, следовало довести до самой верхушки гестапо, дабы там заметили и, естественно, отметили скромного обер-штурмфюрера, раскрывшего преступление, позорящее имперскую армию…
Машина заработала, и Хуммель понимал, что остановится эта гестаповская мясорубка только в том случае, если он, Гуго Хуммель, исчезнет.
Покончить с собой у него не хватало сил.
Сознаться?
Нет, не этого ему хотелось. Ему хотелось рассказать! Непременно рассказать! И именно потому, что ему хотелось рассказать, он не мог покончить с собой.
Ночью, через два дня после того как увезли Левонтия, Хуммель постучался к вдове и попросил ее связать его с другими «гросс малшик», которые делают «бах» и «бум». Потом он показал, что иначе его повесят.
– Некорошо! – сказал он.
– Нехорошо! – зябко кутаясь в шаль, сказала вдова.
Перед рассветом о просьбе Хуммеля доложили Лбову.
Предысторию Лбов знал и назначил толстому немцу день и час встречи. На эту встречу должна была выйти охраняемая своими ребятами отрядная разведчица Маня Шерстнюк – девушка боевая и толковая.