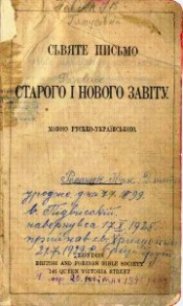Евангелие от Пилата - Шмитт Эрик-Эмманюэль (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Я не счел нужным продолжать беседу. Я и так зашел дальше, чем имел право влезать в еврейские безумства. Для того чтобы находиться в состоянии блаженства Никодима, надо верить в две вещи, в которые я еще никак не мог поверить: в пророческие тексты, которые написали бородатые безумцы в течение веков на неспокойных землях Палестины, и в воскресшего Иешуа, который выступал в качестве человека провидения, предсказанного этими ослиными сочинениями.
— Что ты теперь будешь делать, Никодим?
— Отправлюсь в Назарет. За неделю до смерти, в последний раз ужиная со своими учениками, он объявил им: «После воскрешения я окажусь в Галилее ранее вас». Мы знаем, что он объявится и будет говорить перед людьми по пути в Галилею. Теперь не мы ждем Мессию, теперь он ждет нас. Но мне надо отыскать носилки…
— Зачем?
Никодим показал на свое бедро:
— Оно отказывается повиноваться. Не выдерживает ни ходьбы, ни езды на животном. Только лежа на носилках я могу передвигаться на большие расстояния. Теперь, когда синедрион отнял у меня состояние, я лишился всех средств. Но я найду друга…
Его немощь развеселила меня до злорадства. Излив на нас водопад религиозных туманных рассуждений, Никодим оказался не в силах справиться с конкретным затруднением, чем я был почти доволен.
— Странно, Никодим. Почему Иешуа не излечил тебя, когда ты с ним встретился?
— Потому что я не просил его об этом.
Никодим ответил мне с простодушным спокойствием. Я в раздражении хлопнул дверью у него перед носом, и мы с Клавдией вернулись во дворец.
Наступили сумерки.
Близится ночь, но облегчения она не несет. Угасающий свет меркнет на горизонте, но не уносит моих забот. Через окно я вижу холмы, темную массу гор, подпирающих мрак. Безмолвие терзает меня; все молчит; молчание таит секреты, прячет их от меня.
Я пишу тебе, и бледный цвет этих листков накладывает отпечаток на мои мысли. Я перестал думать, я выжидаю. Я отказываюсь делать выбор между мудрым словом и словом безумным. Я жду, что ко мне вернется разум. Я жду, когда здравый смысл выстроит факты в нужном порядке.
Перед тем как начать это письмо, мне вдруг захотелось поговорить с Клавдией, поцеловать ее. Кровь забилась в моей груди. У меня возникло чувство, что я пропускаю свидание, на которое меня пригласили. Я поднялся в спальню и понял, почему так тоскливо билось мое сердце.
Клавдия ушла. Она оставила на кровати записку, чтобы я сразу заметил ее. Веточка мимозы придерживала папирус.
«Не волнуйся. Я скоро вернусь».
Ты знаешь, я привык к ее запискам, которые предвещают мне часы вынужденного одиночества. Клавдия приучила меня к своим отлучкам, я знаю, что она повинуется никому не подвластному вдохновению, и я не был бы ее мужем, если бы не соглашался терпеть ее капризы.
Я улегся на шелковое покрывало.
Спальня была наполнена ею, ее мускусным запахом, ее тонким вкусом к редким тканям, к резным стульям, инкрустированным цветными камнями, к странным бюстам, привезенным из наших путешествий. Повсюду, где мы были, куда меня посылал долг, я чувствовал себя дома только в постели Клавдии, вдыхая ее аромат. На этот раз я знаю, где она. На этот раз она не отправилась с караваном, не заменяет заболевшую мать у изголовья детей, не проводит несколько дней на берегу моря, погрузившись в размышления, которые лишают ее аппетита и жажды. На этот раз она отправилась в Назарет… Ее охватила та странная лихорадка, которая поразила лучшие умы Иерусалима…
Я должен позволить ей дойти до конца своих иллюзий. Пока иллюзии не рассеются, бесполезно переубеждать ее. Решение я должен искать здесь.
Как ни странно, у меня возникло ощущение, что все вошло в привычный порядок. Я как бы раздвоился. Моя сила, мои мышцы, мой здравый смысл остались здесь, в Антониевой башне, а вторая моя половина, половина мечтателя, половина чувственная, наделенная воображением, половина, которая готова согласиться с миражами иррациональности, сопровождает Клавдию в ее странствии по каменистым дорогам Галилеи.
Я поцеловал веточку мимозы, не сомневаясь, что моя жена, где бы она ни была, ощутит на лбу тепло моих губ.
А где ты, брат мой дорогой? Где тебе доведется читать это письмо? Я ничего не знаю о людях, которые окружают тебя, о деревьях и домах, которые защищают тебя, о цвете неба, под которым ты будешь расшифровывать мое послание. Я пишу тебе о своем молчании, чтобы воссоединиться с тобой, я пишу тебе, чтобы уничтожить расстояние, соединить свое одиночество с твоим. Одиночество. Единственное, в чем мы с тобой равны. Единственное, что разделяет и сближает нас. Желаю тебе здоровья.
Я нашел!
Твой брат вновь стал твоим братом, логика победила. Мой разум в порядке. Осталось только восстановить порядок в стране.
Все сверхъестественное исчезло. И факты больше не противоречат разуму: напротив, они сплетаются в нить хитрейшей, извращенной махинации, складываются в истинно восточную интригу, которая доставила бы удовольствие историку. Палестина пока еще в опасности, но лишение разума ей уже не грозит. Когда закончишь читать письмо, увидишь, что нет больше тайны Иешуа, а остается лишь дело Иешуа. И на решение его уйдет всего несколько часов…
Решение подсказал мне Кратериос, не осознавая этого. Я вызволил его из беды, когда на него с бранью обрушились легионеры в Антониевой башне: он не соблюдал наших армейских предписаний. Сидел посреди двора и ел. Солдаты кричали: «Пес! Грязный пес! Иди в столовую! На кухню!» — а он, продолжая обжираться, спокойно им отвечал: «Сами псы! Кружите вокруг меня, когда я поедаю свою пишу». Я появился в момент, когда он готов был сцепиться с Бурром. Я провел его в комнату и поинтересовался его утренней гимнастикой.
— Я только хотел ею заняться, когда твой центурион облаял меня.
Я позволил ему завершить свои упражнения в углу комнаты.
Он замычал от облегчения и, потирая брюхо, пожалел, что не может с такой же легкостью усмирять голод. Мы отправились с ним в термы.
Мрамор дымился от пара.
— Мне нравятся бани, поскольку здесь нагота уравнивает людей. Никаких тог и пурпура, чтобы возвышать одних и унижать остальных.
Кратериос, конечно, и здесь нашел средство спровоцировать несколько скандалов. Вначале он сцепился с несколькими атлетически сложенными молодыми людьми с мускулистыми и натертыми маслами телами. Они явно любили физические упражнения, а потому боролись друг с другом и соревновались в поднятии тяжестей.
— Красивые мужчины, не вкусившие плодов культуры, подобны мраморным вазам, наполненным уксусом. Мне вас жаль! Вы тратите больше времени на то, чтобы стать хорошими прыгунами, метателями, а не честными людьми. Какую эпитафию выбьют на ваших могилах? Они нарастили хорошие мускулы?
Затем набросился на юношу женственного вида, который жадно наблюдал за атлетами.
— Природа сделала тебя мужчиной. Хочешь ухудшить ее, став женщиной?
Мне наконец удалось затащить его в парную, хотя он любит только холод, и мы долго говорили. Он повторил мне, что его все больше интересует Иешуа, которого он считает философом высшего класса, как и себя, ученика Диогена, поскольку идеалом назаретянина было бродить по дорогам, бросая вызов людям, заставляя их думать по-иному.
— Как Диоген, он отказался от материальных благ, отказался от семьи. Жил кочевником, принимал милостыню. Он сметал все обычаи, условности, не признавал раз и навсегда установленного закона, единственным богатством он считал добродетель. Говорю тебе, Пилат, этот еврей, как и я, последовал примеру Диогена, выбрав короткую дорогу пса.
— А как ты понимаешь его смерть на кресте?
— Здесь и понимать нечего. Истинный мудрец не боится смерти, поскольку знает, что смерть есть ничто. Сознание не страдает, ибо оно исчезает. Когда разлагается плоть, в небытие уходят и разум, и желания, и тоска. Смерть лишает нас способности страдать, а потому к ней надо готовиться, как к блаженству. Кстати, это единственное средство стать мудрецом: рассматривать свою смерть как праздник.