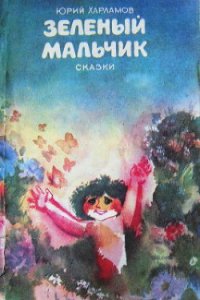Маримба! - Терентьева Наталия (книги онлайн полностью .txt) 📗
В тот же вечер, по совершенно случайному совпадению, я обнаружила у себя на участке еще один привет от крепостного сторожа Сани. Катька собирала чемодан на траве около крыльца и, чтобы не носить вещи через весь дом, по лестнице, бросала свою одежду из спальни на втором этаже прямо в чемодан. Было очень весело. Что попадало в чемодан, то попадало. Что-то падало рядом. Травка чистая, скошенная, ничего не затеряется. А один носочек, который можно было и не брать на теплое море, полетел не туда и остался висеть на яблоне, растущей метрах в трех от чемодана и крыльца. Рядом с хозяйственным сарайчиком, у которого Саня регулярно чинит нам крышу. Он чинит, а она течет. Он что-то там прибивает, старается. Она месяц не течет, а потом опять начинает капать, капать…
Отругав Катьку, я вытащила из дома стул и пыталась как-то достать до яблони. У нас есть огромная лестница, лежит под домом, но достать мы ее не смогли. Тогда я положила на стул старые толстые словари, залезла сверху, Катька изо всех сил меня держала. Я потянулась за носком. Носок я никак не могла достать, тянулась и тянулась, и взгляд мой случайно упал на крышу хозяйственного сарайчика.
– Катюня! Неси фотоаппарат!
– Мам, ты что? – с ужасом спросила Катька, старательно поддерживавшая меня на шатких словарях. – Зачем? Там красивый вид, да? Ты хочешь снимать пейзажи?
– Я хочу запечатлеть башмак, который лежит у нас на крыше сарайчика.
– Башма-ак?! – захохотала Катька.
– Да. Погоди-ка.
Я спрыгнула со словарей, перетащила стул поближе к сарайчику.
– Мне интересно, зачем он там лежит…
Башмак не просто лежал. Старый, разбитый при жизни чьими-то большими ногами, а теперь еще и дождями, башмак был приколочен, очевидно, на месте самой главной дырки у нас на крыше. Почему башмак? Не рубероид? Рубероида у нас полно, кажется. Или Саня его к себе утащил, испросив моего высочайшего позволения… Не помню. О глупостях таких не задумываюсь. Кусок рубероида всегда можно купить на стройрынке в Ново-Петровске, куда мы надо не надо за хлебом и маслом через день с Катькой на машине катаемся. Мы люди свободные, на колесах. Нам весь мир окрестный открыт. Сели и поехали, куда хотим. Хотим – на рынок за свежим творогом, хотим – экскурсию себе устраиваем по местным монастырям, на озера гоняем – свобода! У Санька же в то время машины не было. Скромная «Нива» появилась у него позже, когда наша дружба с начальниками помойки кончилась навсегда. А тогда Саня униженно просил:
– Шурочку на рынок не захватите, а?
Сама же Шурочка по-дружески предлагала:
– Давай я с вами в Волоколамск съезжу! А то я нигде не была. Ни в Клину, ни в Рузе. Нигде. Вы когда выезжаете, часиков в десять? Я подойду.
Дружить так дружить.
Носочек мы с грехом пополам сбили с яблони мячиком, Катьке попало за потерянное время, башмак был запечатлен для друзей – Катька собирает такие «петросянки» – и просто для памяти. Разве не в этом память о нашей собственной жизни? В таких смешных, глупых и обидных мелочах, в том числе.
Вот моя мама, к примеру, все детство кормила нас с братом на завтрак яичком «по-английски». Всех детей кормили кашами, а нас почему-то – яичком всмятку, размятым с черным хлебом в блюдечке и посоленным. Я очень любила это блюдо. Но в памяти у меня четко остался только один завтрак. Я съела свое яичко. И была, как обычно, голодна. Я быстро росла, много бегала, много читала, хохотала до икоты, всласть рыдала, мне требовалось много энергии, и я всегда хотела есть. А брат мой ел плохо, был худенький, маленький, на тонких мосластых ножках. Мама его жалела и старалась кормить получше, но у него не было никакого аппетита. Вот и тогда, в то утро, он не съел и половины, заплакал и убежал из-за стола. Мама пошла следом. А я сидела-сидела за столом, смотрела-смотрела на его блюдечко с аппетитной нежной яично-ржаной массой, взяла и быстро съела. А в это время на кухню вернулись мама с братом. Она уговорила его не плакать и доесть яичко.
Как же мне попало тогда! За все. Я тоже так иногда ругаю Катьку – за все. За то, что у нее такой папа, за то, что у нее в детстве была короткая шея, а я, умница, ее вытягивала ей – поднимала каждый день за шею до пяти лет, пока Катька не стала слишком тяжелой для этого. За то, что она очень уж хорошо учится, убивается, мало спит, за то, что так быстро читает, на нее никаких книг не напасешься, за то, что трусовата и прижимиста, за то, что мало пьет и жадно ест, за то, что ее пальцы ни на чьи не похожи – ну ни на чьи из родственников! Нет ни у кого таких длинных, белых-белых пальцев, с изящными удлиненными ноготками. Были у какого-то ее семитского предка. Семитские ручки – у моей русской дочки!!! Ничего плохого, но – почему?!!
Вот и мама отругала меня тогда за все. За то, что я – папино отродье, за то, что я могу сожрать вообще все, за всех, и не лопнуть, за то, что брат Лёва болеет, а я – здоровая и наглая, и думаю только о себе, о больном братике не забочусь, и о маме не думаю, и с собакой не занимаюсь, которую клянчила-клянчила, а теперь с ней гуляет мама…
Я понимала, что мама права, и все равно мне было очень обидно. Я ведь не виновата, что похожа на папу. Я тоже папу не люблю, не одна мама такая. И я бы с удовольствием стала такой худенькой, как мой Лёва. И с еще большим удовольствием я бы была младшей, и меня бы всегда жалела и любила моя мама… Я отлично помню, что именно так я думала.
Я рассказала Катьке про яичко. Катька внимательно выслушала, погладила меня, вздохнула:
– Мам… Ты мне уже про это яичко, знаешь, сколько раз рассказывала!
– Да? – искренне удивилась я. – Разве? Ну ладно. А ты про башмак своим детям тоже будешь много раз рассказывать, да?
– Нет. Я про то, как ты меня в темной ванной за плохое поведение хотела запереть, расскажу, – очень серьезно и трагично поведала мне Катька.
– Катька! – я аж задохнулась. – Да я же не заперла тебя, только отвела, показала, как там страшно, ты даже не зашла! Как тебе не стыдно!
– Там было очень страшно. Я видела. И мне потом было страшно, когда я представляла, как я там стою и… И спать ложусь прямо в ванну. И я теперь всегда, когда ты орешь на меня, боюсь, что ты меня отведешь в темную ванную.
– Да, ясно. Ладно. Буду хоть знать, чем тебя пугать.
– Мам… – Катька оглядела наши горшки. – Что-то мне кажется, придется нам с собой все цветы брать.
– В поезд?
– А что с ними делать? Они же погибнут.
– Шура польет. Я уверена, что она отошла. Мне не хочется ей звонить. Но со всяким бывает. Наверняка теперь уже жалеет. Она же добрая тетка. И мудрая.
Я быстро набрала ее номер. Телефон не отвечал.
– Ладно, давай к ней сходим. Вроде все собрали. Светло, а ведь уже поздно, спать пора ложиться, завтра очень рано вставать.
Мы подхватились и пошли к Сашам. В их доме свет не горел, но было видно, что включен телевизор. Я постучала. Никто не открыл. Я постучала еще. У ворот и у помойки – камеры. Сторожа видят всех: кто въезжает, кто выносит мусор и кто к ним пришел.
Мы постояли у крыльца.
– Ладно, Катюня, пошли. Спят, наверно, – неуверенно сказала я.
И тут открылась дверь. Боевая Шура стояла, подбоченившись, на своем высоком крыльце и, маленькая, была сейчас выше меня. Вот так, наверно, неприятно ей обычно со мной разговаривать – я намного выше ростом. Сейчас же ее круглое пузико выпирало из-под грязноватого халатика в больших ярко-зеленых цветах и возвышалось над моей головой.
– Я твои цвяты поливать ня буду! – четко сказала мне Шурочка.
– Сволочь, – ответила ей я, взяла Катьку за руку и ушла.
Я слышала, как Шурочка громко что-то говорила Сане, наверно, рассчитывая, что я это услышу. Но я слов не разбирала.
Мы шли по дорожке домой. Наше товарищество расположено очень красиво на краю луга. Лес, хоть и близко, нигде не заслоняет солнца. Вечером же солнце долго-долго опускается за кромку темного леса на длинном пригорке. Закат никогда не бывает одинаковый. В тот вечер небо было чистое, но несколько легких облачков спустилось как раз к темной полоске леса, и солнце садилось прямо в их ажурную пелену, окрашивая ее в нежные персиковые, малиновые, фиолетовые оттенки.