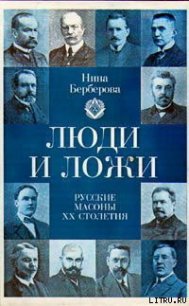Мыс Бурь - Берберова Нина Николаевна (библиотека электронных книг .txt) 📗
— Отчего же нет? — и Даша опять засмеялась. — Вполне похоже на то. Во всяком случае, из всех житейских комбинаций я нахожу для себя эту наиболее подходящей.
— Комбинаций? — растерянно повторила Любовь Ивановна.
— Ну да. Возможностей, если хотите. Жить так, как я жила до сих пор, вплоть до семидесяти лет, право же, слишком грустно. Нянчить Заиных детей, когда она выйдет замуж, тоже мне не улыбается. Сониных — незаконных — еще меньше.
— Незаконных! Что ты говоришь! — у Любовь Ивановны появилась эта привычка с некоторых пор повторять слова собеседника. Она заразилась ею от госпожи Сиповской.
— Один раз замужество я уже попробовала, но из этого ничего не вышло. Я думаю, тогда еще жил во мне тот испуг, вы знаете какой. Сейчас он исчез, столько лет прошло. Да и человек на этот раз совсем другой.
— Какой же он человек, Дашенька?
— Он — прекрасный человек, хоть, кажется, с характером, но спокойный, уравновешенный, воспитанный. Он знает, чего хочет. Всю жизнь искал прочности — в положении, в личной жизни, во всем. Но именно в личной жизни прочности не было: жена умерла, и ему ее очень недоставало. А случайных связей он не любил, боялся бурь и треволнений, боялся за сыновей, которых очень любит. Ранение наложило на него очень тяжелый отпечаток. Он однажды мне сказал: я знаю, что вы та самая, которую мне надо.
— А ты что?
— Я? Ничего. Он не спросил ни о чем. Он не знает, что я к нему отношусь очень дружески.
Любовь Ивановна встала, подошла к Даше и поцеловала ее в голову. Забота была у нее в лице, когда она спросила:
— Дашенька, а ведь если дружески, если только дружески, то ведь как же все будет-то?
Она сказала это и испугалась: ей захотелось, чтобы Даша не расслышала, не поняла ее слов, а если это было невозможно, чтобы она хотя бы ничего не ответила на это. И Даша не ответила. Она продолжала некоторое время сидеть в старом кресле, смотря на старые плюшевые занавески, из которых одна была оборвана с колец, и, переведя глаза в угол комнаты, она увидела, что и обои старые, что рисунок их потускнел, выцвел, что выцвела старая цветная литография, копия какой-то мадонны с младенцем, что все здесь в квартире старое, вылинявшее от долгих лет, трудных лет, и что Любовь Ивановна тоже старая, и что еще немного, и она сама, Даша, начнет тускнеть и выцветать. А где-то висят вот такие мадонны с младенцами, яркие, пухлощекие, улыбающиеся. Впрочем, может быть, и они вылиняли тоже, как и их копии? Кто знает!
Это было накануне, а сегодня она в последний раз была на службе, впрочем, не совсем в последний, потому что она еще зайдет туда, но уже не будет сидеть от девяти до шести, уже не включится в конвейер. Старый Моро опять болен, и на этот раз тяжело, так что сын торопит со свадьбой, потому что отец может умереть, и тогда будет траур, и нельзя будет венчаться, и придется ему возвращаться одному в Оран. Мальчики учились плохо, гувернантка грозилась уйти, повар пил и вообще нельзя оставлять дом так надолго.
Удовольствие, которое он испытывал, сидя с Дашей рядом, в кресле театра, было совсем особого рода: он знал, что теперь наступает отдых. Десятки лет он воевал, и теперь вдруг объявлялся мир: будто по всей вселенной объявлялся свыше вечный мир. Кругом все говорили о войне, которая шла большими шагами, а ему казалось как раз наоборот: война навсегда покончена. Сначала война была с собственной матерью, потом с отцом, потом он пошел на настоящую войну и ему оторвало руку; потом он воевал с женщинами, когда женился — с женой, с гувернанткой сыновей, с сыновьями… Теперь этому приходил конец.
Теперь был мир и прежде всего — мир с самим собой, лад, которого он никогда до того не чувствовал, и особенно — в ее присутствии; потому он так сильно и дорожил ею. «Мне всегда говорили, что у меня несносный характер, — предупредил он Дашу в самом начале, — что-то вы скажете, когда узнаете меня ближе?» — «А у меня хороший, — сказала она просто, — и я думаю, все обойдется». С тех пор, как был этот разговор, он усвоил привычку каждый раз, как видел ее, с нежностью оглядывать все ее лицо, шею, прическу, словно проверял, та ли она, та же ли самая, которая была вчера, которая завтра будет его женой?
«Не надо думать!» — мелькнуло опять на каком-то столбе, под фонарями, и когда Даша вернулась домой, она машинально еще раз повторила это про себя, шевельнув губами. Было поздно. Она зажгла лампу на столе. Зай крепко спала, книга лежала на ее подушке, у самой щеки. Даша села к своему маленькому столу, покрытому старым клякспапиром, заслонила лампу картоном и задумалась.
Ей представилось возможным вот так, одной, в этой комнате, глухою ночью, под лампой, найти ответ на все вопросы и сомнения, которые лежали тяжестью на ней все последние месяцы. Какое-то предчувствие шевельнулось. Странное облегчение прошло по ней при этом. Вопросы и сомнения давили ее это время, но почва ни разу, в сущности, не ускользнула из-под ее ног. Она прочно опиралась на нее. Был ли это мир, который, за ее долгое доверие к нему, платит ей сейчас этой поддержкой, или она сама достаточно сильна, сильнее еще, чем предполагала? Она себя не знала. «Нет, я не потону в воде и в огне не сгорю, — подумала она, — а если и потону и сгорю, то, может быть, все-таки не погибну. Как же это так: не погибну? А если умру? Останется все-таки что-то. Что же именно?» И вдруг она почувствовала толчок в сердце: ей открылся ответ на вопрос и сразу же на все другие за ним; ей открылось внутренним осязанием души, что все на свете — двусмысленно. «Да, если Бога нет, то все двусмысленно, — подумала она. — А его нет и никогда не было, и никогда я не чувствовала необходимости в том, чтобы он был. Все, все имеет два смысла: каждый поступок, каждое решение, как бы ты ни поступала, как бы ни поступали с тобой — оно и так, и эдак, оно и да, и нет, и за, и против, оно полно двух значений, и ты свободна принять, если хочешь — одно, если хочешь — другое. Ведь мир разрезан уже давно не вдоль — добро и зло, но поперек — счастье или несчастье. Значит, иди за тем, что в данную минуту ты выбрала, потому что данная минута — твой единственный критерий, и ты сама себе судья. Ледд пренебрег мной, и это принесло мне страдание, но в этом страдании я пожелала смерти Сони, и увидела, что желание мое столь же мало, вяло и бессильно, как и у всех людей, что я не могу изменить хода вещей, а значит Ледд был прав, что пренебрег мною. И теперь я начинаю новую жизнь, третью, потому что здесь была вторая, а там — первая, и эта новая жизнь, как все на свете, будет двусмысленна. Она будет иметь два значения, из которых одно будет: самоотверженность, покорность, разлука с домом, согласие на все, что нужно в браке, а другое: трусость перед будущим, перед одиночеством, усталость от службы и трудной жизни, уход в круг предрассудков, обязанностей, и желание благополучия. И нет в мире вещи, которая не имела бы двух смыслов, ни даже любовь пухлощекой мадонны к своему младенцу, ни подвижничество, потому что и у него есть оборотная сторона; ни жертва. Раскрой ее до конца, и ты увидишь, что в ней тоже две сути. Выбирай любую, какая тебе в данную минуту больше нравится».
— Я давно догадалась, что Соня думает обо мне, — продолжала Даша, подперев лицо рукой и глядя, словно скосив глаза, как пульсирует голубая жилка у ее левого запястья. — Она думает: вот к чему приводит безмятежность, равновесие — к страховке от страданий и страстей. Но я скажу ей на это когда-нибудь: а к чему приводит вечная тревога, разлад и борьба? К самоубийству? К преступлению? К безумию? А к чему приведет Зай ее восторг перед всем, ее поэзия, из которой, вероятно, ничего не выйдет, ее мечты — наяву и во сне? К восторженности до старости, к болтливой экзальтированности? Или к глупости? К чему привела папу его ненависть к нашему времени? Тетю Любу ее чувствительность и добродетель? Сиповского любовь к красивым словам? Фельтмана его разбросанность и дилетантство? Все, все двусмысленно, на все имеется два ответа. Только в один влезаешь, как в разношенный башмак, а в другом немного тесно и неудобно.