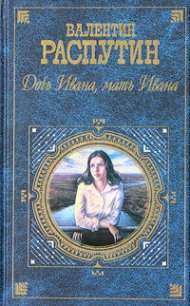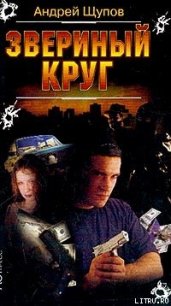Последний срок - Распутин Валентин Григорьевич (читать хорошую книгу TXT) 📗
Матери она предлагала: «Давай, мама, сюда свою голову», зная, что мать любит, когда ножичком царапают ей в голове, в поседевших волосах, и никто, даже если брать старух, не умел так расшевелить голову, как Таньчора, коснуться именно того места, которое просится, чтобы его потрогали, и не повредить ни одного волоска. Из дочерей только Таньчора и ублажала этим мать. Она быстро-быстро водила ножичком и приговаривала: «Ты у нас, мама, молодец». – «Это еще пошто?» – удивлялась мать. «Потому что ты меня родила, и я теперь живу, а без тебя никто бы меня не родил, так бы я и не увидала белый свет!» Таньчора смеялась и подбирала, как гладила, старухины волосы. «Ну тебя! – притворно сердилась старуха. – Мелешь чё-то, мелешь, а чё к чему, и сама не помнишь». – «Нет, помню. Ты у нас, правда, молодец, ты и не знаешь, какая ты молодец, ты лучше всех. Скажи, мы у тебя хорошие или нет?» – «Я не говорю, что плохие». – «Значит, хорошие. И это все ты, никто больше не смог бы родить и вырастить таких хороших людей, никто – так и знай. Нам с тобой сильно повезло. У кого еще есть такая мать, как у нас? То-то и оно». Старуха замирала и терялась от этих слов, она не знала, что их можно говорить вслух, – едва ли в деревне, где не привыкли к нежностям, кто-нибудь произносил их еще. И так понятно, что никто, кроме нее, не смог бы родить ее ребят, но разве об этом говорят? Зачем? Мать пугалась и еще ниже опускала голову в Таньчорин подол. «Ты у нас будешь жить долго-долго, больше всех, потому что ты лучше всех, и мы тебя никому не отдадим, никакой старости». – «Не присбирывай!» – перебивала ее мать. «Я не при-сбирываю, я даже представить себе не могу, что мы сможем когда-нибудь остаться без тебя». Старухины глаза застилали слезы от этих оголенных лаской слов, и она торопливо поднималась: «Хватит на сегодня. Дорвались, а дело стоит».
Ее пугали такие разговоры, но они случались не часто, всего несколько раз, и это был приятный, усмиренный страх, как страх невесты перед первой брачной ночью. Мать потом долго испытывала их про себя, как бы случайно, ненароком припоминая выпавшие слова, на самом деле старательно собранные в памяти, чтобы погреть, когда захочется, душу. И правда – какая мать останется при этом бессердечной?! Могла ли она не верить Таньчоре, если та всегда обходилась с ней ласково и тепло, делясь, как с подружкой, тем, что доверят не каждой матери. И даже когда выходила замуж, попросила в письме родительского благословения, и мать не отказала, не посмела, хоть и горько ей было, что не знает она, кто берет за себя ее дочь.
И вот ее Таньчора как уехала, так и сгинула.
В последнее время старуха готова была винить в этом не дочь, а себя. В чем ее вина, она не понимала, ей было не по силам отправиться к дочери, которая живет где-то так далеко, что старуха не могла добраться туде даже умом, не то что дорогой, но она понимала другое: нельзя матери столько не видеть свою дочь – тяжело перед собой, неловко перед людьми, стыдно перед дочерью. Вот и выходит: что она за мать, если смогла вытерпеть такую разлуку? Что она сделала для того, чтобы свидеться с Таньчорой? Только и знала, что ждать. Хоть бы палец о палец ударила. А как ударить, чтобы был толк? Господи, если бы кто-нибудь подсказал. Старуха не боялась за Люсю, верила, что она себя в обиду не даст – не такой она человек; Варвару, ту, наоборот, мог обидеть каждый, но Варвара была рядом, почти на глазах; Илья – мужик, он сумеет за себя постоять, и только Таньчора, как нарочно выброшенный кусок, больше всех маяла старухино сердце, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Посмотреть бы на нее хоть через щелочку, хоть разок, чтобы понять, что с ней сталось, как живется ей на дальней стороне, среди чужих людей, без матери. И по лицу, без слов, можно многое узнать, и тогда старуха решила бы, молиться ей за дочь или радоваться. Еще и потому ей надо было перед смертью хоть мельком взглянуть на Таньчору, чтобы снять со своей души грех за то, что она ее долго не видела, очиститься перед богом и спокойно, радостно и светло предстать перед его судом: вот я, раба божья Анна, черного с собой не несу.
Но сегодня был последний срок: если до темноты Таньчора не приедет, значит, нечего больше и надеяться.
Уверив себя, что Таньчора обязательно будет, надо только потерпеть и не мешать ей подъезжать все ближе и ближе, старуха облегченно задремала – сначала чутко, сторожа со стороны каждый звук и все время помня, что она дремлет, потом, как это всегда бывает, ненароком выпустила себя из рук и потеряла, оставив в кровати вместо человека пустой мешок. И где она была, что делала, никто не знает.
Ее воротили голоса, она услышала их, находясь еще далеко, откуда не понять, о чем говорят. Слух первым вернулся к старухе, но он был слабым и уловил только неясное, обрывистое бормотание, похожее на бульканье, будто кто-то бросал в воду камни. Старуха теперь была не та, что раньше, когда просыпалась моментально, как тут и была; сейчас ей надо было время и силы, чтобы собрать все, что положено иметь человеку – и слух, и глаза, и память, словно она расклеивалась во сне на части, каждая из которых норовила забыть свою службу.
Она открыла глаза и сразу ничего не различила: в комнате было сумеречно, но сумерки уже достывали до полной темноты. Окна светлели только с той, с уличной стороны, но через стекла проходило мало. Четкий, нажимистый голос Люси, не теряясь в темноте, кому-то выговаривал:
– Как вам не стыдно?! Мама чуть живая лежит, а они как с ума сошли!
Старуха и испугалась не сразу, она успела рассмотреть склонившуюся над столом голову Михаила, с другой стороны стола сидел Илья– собираясь что-то ответить Люсе, он шевельнулся, и старуха скорее почувствовала, чем увидела и поняла, что мужики все еще не выбрались из пьянства, возятся в нем, как мухи в отраве, в которую для приманки добавили сметаны. В ногах у старухи глубоко, достав изнутри стон, вздохнула Варвара. Люсю не было видно, голос ее звучал справа, оттуда, где под божницей стояла тумбочка.
И тут на старуху напал страх. Изогнувшись в кровати, она крикнула, но крикнула не спрашивая, а зовя, требуя, чтобы ей отозвались:
– Таньчора!
До того, как наклониться над старухой, Варвара оповестила:
– Матушка наша проснулась.
– Таньчора! – снова позвала старуха, отдав слуху все, что в ней осталось, даже дыхание.
– Она еще не приехала, мама. – Щелкнул выключатель, и комнату, как рукавичку, будто вывернули на другую сторону, ярким наверх. У выключателя стояла Люся. – Таньчора еще не приехала, – повторила она, видя, что старуха не понимает.
Они загораживались от света ладошками и щурили глаза. Старухе показалось, что они прячутся, потому что не хотят сказать ей правду, и она не поверила им; качая головой, она обвела их умоляющим, до последнего натянутым взглядом, который смогла выдержать только Люся, и задохнулась, будто влезла на крутую гору, не оставив сил больше ни на шаг. Таньчоры не было тут, старуха должна была понять это с самого начала, как пробудилась: при Таньчоре говорили бы о другом. Проспала. Она все еще качала головой, не веря ни себе, ни им и не в состоянии выговорить ни слова – голова ее в отчаянной мольбе, как у нищенки, тряслась на подушке, а горло все никак не отпускало от перехватившей его боли и невозможности вернуть ни одной капли света, которая посветила бы Таньчоре. В окне, как в зеркале, замазанном с той стороны черным, отсвечивала только залитая электричеством комната, за стеклом не проступало даже самое маленькое пятнышко. Старуха приподнялась на 172 локте и, подаваясь вперед, чуть не вываливаясь из кровати, нетерпеливо и жалобно спросила:
– Где? Где она?
Она застыла, прислушиваясь, глаза, не глядя ни на кого в отдельности, смотрели широко, чтобы не пропустить того, кто принесет ответ.
– – Если бы мы знали, зачем бы мы стали скрывать от тебя, где она, – спокойно сказала ей Люся. – Пойми: мы сами ничего не знаем.
– Ей-богу, матушка, мы ее не видали. – Для пущей верности Варвара прижала руки к груди. – Я врать тебе не буду. Не видали.