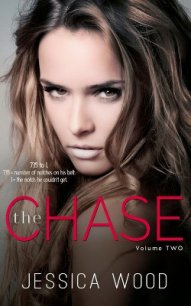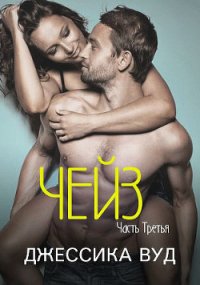Кафе смерти - Линская Анна (бесплатные серии книг TXT, FB2) 📗
Было в нем что-то мальчишеское, да и сам он был худым, высоким, волосы на глаза падают, пиджак висит, как на десятикласснике на школьной дискотеке. Только в отличие от моих однокурсников, вчерашних десятиклассников, он читал на английском, говорил про будущее, и пахло от него не дешевым одеколоном, а чем-то терпким, женским.
Это был закрытый клуб, войти в который можно было только по особому Славочкиному приглашению. Я так и не поняла, за что оно досталось мне. Почему им – понятно. Светловолосая Оленька, все у нее как у ребенка: губы, руки, шея – мужчины-преподаватели от такой ничего не ждут. Мне нужно неделями штудировать учебники из дополнительных списков, чтобы сформулировать ту мысль, которая дается ей быстро, легко, гладко, на первом же вдохе. Маша из параллельного потока, маленькая, бойкая, бесстрашно говорящая то, что думает, за что неоднократно бывала почти отчислена, и это почти не доходило до отчислена только стараниями Славочки. Остальные, цвет университета. А что я? Я много раз себя спрашивала. Пыталась вспомнить каждое слово, сказанное на его занятиях, каждый взгляд в коридорах. Ничего. Но все же как-то после его пары под шум, смех, сборы сумок прозвучало: Марина, а задержитесь с нами на пять минут. Я уже знала, что это значит. Сердце выросло, заняло всю грудную клетку и застучало дальше – в руках, ногах, пальцах. Я поправила волосы, посмотрела в пол, кивнула.
Обычно мы оставались в аудитории, ждали, пока все уйдут, пока не выветрится их смех и гомон, открывали окна нараспашку, особенно весной, – дышали солнцем, ветром, рассаживались, слушали. О детях Славочка мог говорить долго – вставал со стула, ходил по опустевшей аудитории, садился прямо на стол, кусал ногти. Мариша, тебя вот ка́к учили? Я рассказывала все время одно и то же: двойки красной ручкой, домашние задания, доски почета. Это заставляло его вскакивать, снова ходить – он говорил нам про новые школы, про новые кабинеты, в которых нет столов, про кураторов вместо учителей, про дружбу с учениками, ведь можно и дружить, как мы с вами, да? – я кивала и представляла себе эти кабинеты, выкрашенные в бледно-голубой под цвет его глаз, в кабинетах красивые дети сидят прямо на полу и, перебивая друг друга и смеясь, спорят про что-то, ничего не боятся и становятся умнее.
Я, конечно, любила его больше всего. Больше себя точно. И весь университет наш, старый, тусклый, пропахший дешевой краской, тоже любила только из-за него. А его самого любила за то, что выбрал меня, позвал сидеть в пустых аудиториях и слушать. Помню, как мы шли по апрельскому Арбату. Все мокрое, блестящее, небо голубое и веселое. Мы шли на семинар какого-то его знакомого учителя с апрельской фамилией, то ли Соловьюшина, то ли Соловейчикова. Он взял меня под руку, как подружку, и мы шагали быстро в ногу, он считал – раз-два-раз-два, – я смеялась, запрокидывая голову. Я представляла, что на нас глядят с весенних балконов и думают: вот бежит по нашему Арбату молодая пара и все-то у них впереди.
Я ни на кого больше не смотрела тогда. Не видела ничего. Много лет спустя, когда все случилось с мамой, я, пошатываясь, вышла из комнаты и поняла, что ничего не вижу справа и слева, только кусок старых обоев, поцарапанных давно уже умершей кошкой. Мне сказали, что это туннельное зрение. Со Славочкой тоже было так, неслась как по туннелю, не различая, что оказывается на обочине.
Марин, ты совсем слепая, да? С Севой мы дружили еще со школы, он встречался с одной моей лучшей подругой, потом со второй, раскрашивал мне атласы по географии, с ним я в первый раз попробовала водку – из отцовской фляжки, которую он пронес во внутреннем кармане на утренний сеанс в кино. И вот говорит, Марин, ты совсем слепая, да? Пришел ко мне ночью, принес связку шариков, поздравляю, говорит, с закрытой сессией. Обнялись, чай поставила, начала про Славочку.
– Марин, я за тобой хожу с десятого класса, – насупился, – скажи мне «да».
Я, конечно, сначала рассердилась. А потом рассказала Маше, и та, улыбнувшись мне своим широким ртом, все подтвердила. Мы шли по коридору через толпу студентов. Конечно, это секта, сказала она и продолжила:
– Я бы уже давно из нее вышла, да не могу.
Она остановилась у окна на лестнице. Схватилась за старую ручку, дернула раз, второй, и окно распахнулось, впустив зимний воздух. Покопавшись в сумке, достала пачку сигарет, закурила. Проходящие мимо студентки кутались в шарфы, смотрели круглыми глазами, но ничего не говорили. Я тоже молчала, это же Маша, лучшая на потоке. Самая красивая на потоке.
– И ты не сможешь, – сказала она, протягивая мне сигарету.
– Спасибо. – Я неумело прикурила.
– Так что забудь и… – (Ее прервал окрик Славочки.)
Я вздрогнула. Маша спокойно затянулась еще раз.
– Ты сдурела. – Он схватил ее сигарету и выбросил в окно.
Я спрыгнула с подоконника и сделала пару шагов назад.
– И ты туда же. – Он посмотрел на меня. – Что у тебя сейчас?
– История, – тихо сказала я.
– Иди давай.
Перед поворотом я оглянулась, лестница опустела, все разбежались по парам. Славочка быстро обнял Машу и что-то сказал. Она опустила голову, завитки ее темных волос пружинили на сквозняке.
Не помню точно, когда она первый раз начала говорить о смерти, помню только совершенную будничность: купи яйца, творог и, кстати, я бы уже поскорее умерла.
Я не знала, что на такое отвечать – вместо этого улыбалась. Кухня у нас была маленькая, линолеум в паре мест прожжен сигаретами, моими же, времен университета, потолок желтоватый. Кухня была нашей точкой пересечения.
Почти все время мы жили параллельно друг другу, она вставала тогда, когда я уже была на работе, медленно делала свои домашние дела. Любила жарить котлеты в огромном количестве масла. Масло везде налипало, и смыть его у нее уже не хватало сил. По вечерам я водила колготной тряпкой (мама нарезала старые нейлоновые колготки на прямоугольники и сшивала их вместе в подобие губки) по стенам вокруг плиты, но капли жира только размазывались по поверхности.
Когда я садилась ужинать, она уже лежала в своей комнате, прикрыв кусочком ткани (у нее они всегда стопкой лежали у кровати, вырезанные из старых наволочек) правый глаз.
На кухне встречались по выходным. Она тихо пересказывала увиденное по телевизору. Рассказывала одни и те же истории про свою молодость, цепляющиеся друг за друга, обрастающие новыми деталями. Я говорила, мам, ну ведь не было такого. Не могло быть. Не могла я ходить с ней на байдарках, потому что в первый и единственный наш выезд я упала в воду, простудилась и ей срочно пришлось ехать со мной домой.
Она вообще бредила байдарками. Все время вспоминала своего инструктора, а как-то призналась мне, что никого не любила – даже моего отца? – а его любила. Ей нравилось, когда мы разглядывали альбомы, вся сразу расплывалась, как кусочек масла на сковороде, проводила пальцами по каждой странице, желтой, с листьями на фоне и фотографиями, вставленными в картонные уголки.
Вот он, говорила и показывала фотографию: высокий, плечистый, улыбается в бороду, рядом привален рюкзак, позади черно-белая река.
– Знаешь, какой был, – говорила мама, – туршеф наш. Всем доброе мог сказать. Взял меня с тобой под крыло. Один раз только мы поссорились.
Я могла пересказать эту историю слово в слово – маме было жалко курицу, которую принесли из ближайшей деревни в закрытом кане. Курица приподнимала крышку головой и кудахтала. Планировали сварить ее вечером, но мама не выдержала и выпустила, пока все готовили костровище. Курицу, правда, все равно поймали. А туршеф с мамой не разговаривал целый день.
В лучшие дни она рассказывала эту историю именно так. В средние – что кан открыла я. В худшие – что это была Лиза.
В последний год она снова начала говорить про Лизу. Так много и подробно, что порой казалось, что та сидит в соседней комнате в кресле. Я почти слышала скрип половиц в коридоре, когда она выходила из комнаты за сигаретами. Я снова начала думать о том, каково это – если бы она была рядом. Что бы мы делали сейчас? Есть ли у нее семья? Я представляю, как мы сидим на ее кухне – красивой, большой. Пьем обязательно коньяк, она говорит мне: Марина, ты была права, мы поженились слишком рано. Мы допиваем коньяк и расходимся под крики летних птиц, когда за окном уже светлеет.