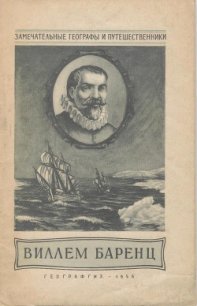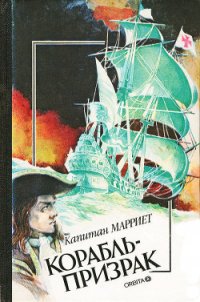Больше никогда не спать - Херманс Виллем Фредерик (книга жизни txt) 📗
Мир проносится мимо, я кричу. Ноги с шоком ударяются о землю. В голове такая ужасная боль, что я не осмеливаюсь даже открыть глаза. Я лежу, вытянувшись на скале. Чувствую камень под ладонями, но ничего не вижу. Подходит Арне и берёт меня за плечи. Я пытаюсь идти, но не могу пошевелить правой ногой. Кровь течёт мне в правый глаз. Левой рукой я пытаюсь оттолкнуть Арне и повторяю:
— I'm allright! I'm allright!
Но он не отпускает меня. Мир снова появляется у меня перед глазами, я вижу его словно сквозь дно пивной кружки. Промокнув глаз тыльной стороной ладони, я замечаю, что вся в крови не только моя рука, но и правая штанина. Как это получилось?
Я лежу довольно близко к большому костру, в одних трусах. Миккельсен жарит на сковородке шесть форелей. Время от времени надо мной пролетают клубы дыма. Ветер меняется.
Левой рукой я вожу вверх и вниз по левой ноге, чтобы отогнать комаров. Мою правую ногу норвежцы вымыли и перевязали. Рассечена от щиколотки до колена. На лоб приклеен лейкопластырем большой ком ваты, он немного заслоняет мне глаза.
Я курю сигарету, но не чувствую вкуса; так бывает всегда, когда рядом что-нибудь жарят на маргарине. В падении я повредил футляр компаса — оторвалась тонкая полоска кожи. Мой ценный компас! Я достаю его и рассматриваю свой лоб в зеркало. Лоб выглядит так, как будто в него попал большой снежок, который почему-то не тает. Моя щетина тоже достойна внимания. Оказывается, она светлее, чем мои волосы, никогда раньше я этого не замечал. Сколько ещё можно узнать о самом себе. И какие бывают отличные возможности для маскировки.
— Доволен своей бородой?
Квигстад садится рядом со мной. Я закрываю компас и снова засовываю его в футляр.
— Бритьё, — размышляет вслух Квигстад, — какое странное изобретение. Почему, вот уже тысячи лет, людей зимой и летом заставляют подражать облетевшим деревьям? Никто не знает. С другой стороны, не вызывает никаких сомнений то, что такие достойные бородачи, как Моисей, Сократ или Маркс, имели все причины поменьше выставлять своё лицо напоказ.
Он суёт в рот сигарету и протягивает руку в мою сторону. Я отдаю ему спички.
— Merci. А вот такой анекдот знаешь? Два колониста приходят к врачу. На сморщенном орудии одного из них врач видит синюю татуировку, слово, в котором можно разобрать только первую и последнюю буквы: «s» и «е». Спрашивает, что это такое. «Понимаете, доктор, одинокими ночами в девственном лесу случается так, что эта надпись видна полностью, там написано „Simone“. — Симона? — Да, знаете, доктор, так зовут мою жену, и одна мысль о ней предохраняет меня от любых соблазнов».
Ну, хорошо. Врач осматривает второго пациента и видит такую же татуировку: «S…e». «Что, опять Симона?» — «Нет, доктор». — «А что же тогда?» — «Здесь написано: «Souvenir d'une nuit chaude passée en Afrique Occidentale Française»[2].
Квигстад раскидывает руки в стороны, как будто висит на кресте, и кричит:
— Во-о-от такой длинный! Dirty bugger, ха!
Потом мы едим галеты, жареную рыбу и сыр. Арне варит кофе, а Миккельсен появляется с бутылкой и наливает в кофе немного коньяка.
Арне смыл кровь с моих штанов. Отдавая их мне, он говорит:
— Ты мог бы умереть.
Я мог бы умереть. Но я не мёртв. Я выжил. Я даже не особенно тяжело ранен.
Я натягиваю штаны на саднящие ноги, давя комаров, и думаю об отце.
От чего именно он умер? Он упал головой вниз? Или одновременно вниз скатился камень и попал в него? Почему он не просто рассёк колено? Тогда, наверное, я бы здесь не сидел. Может быть, я сделался бы флейтистом.
Я не суеверен; но почему же тогда я сейчас обо всём этом думаю? Откуда взялось у меня ощущение, что теперь я вне опасности? Моё падение — это повторение рокового падения моего отца. Тот же злой дух, что сбросил его в пропасть, подвигнул меня на похожие приключения, чтобы и я погиб такой же смертью. Но ничего не вышло. Я заплатил всё с меня причитающееся. Я выжил, и мои раны незначительны. Я доказал духу, что я сильнее. Теперь он должен оставить меня в покое.
Если я не суеверен, то почему же я всё это выдумываю?
Я снова продеваю ремень в петли штанов и закрепляю на нём футляр с компасом. Футляр всё ещё выглядит, как новый, — а он у меня уже столько лет. Даже свежая царапина на нём тоже новая, она вовсе не добавила ветхости футляру, скорее, даже наоборот.
Где проходит грань между повреждением и изношенностью?
— Альфред! Смотри! Смотри!
Арне, Квигстад и Миккельсен смотрят, все втроём, на противоположный берег озера. У Миккельсена в руках призматический бинокль. Я встаю, вначале ничего не замечаю, потом вдруг понимаю, что привлекло их внимание. Кажется, что склоны горы Вурье пришли в движение. Что у растений, камней и снежников выросли ноги.
Набравшись сил, я ковыляю к Арне.
— Слушай! Слушай внимательно!
Я слушаю, разинув рот. Воздух наполнен своего рода гудением, я не знаю, как описать этот звук точнее. Низкое мычание, тихий рёв громадного горизонтального существа, расстелившегося вдоль всего склона.
Когда смотришь в бинокль, кажется, что слышишь, как животные пасутся. Все они бурые или бежевые, некоторые — пятнистые. Каждый из нас по очереди скользит биноклем вдоль реки, пытаясь отыскать пастуха. Но он вполне мог уйти вперёд на километр или даже больше. Животные медленно спускаются к реке.
— Ветер дует в нашу сторону, — говорит Миккельсен. — Если хотите, мы можем подойти к ним совсем близко.
— Они почти так же пугливы, как и дикие звери, — поясняет Арне. — Они убегут, как только нас учуют.
Северные олени. Сказочные существа с рождественских открыток. Косули с фетровыми рогами. Экзотика, ставшая банальной из-за чрезмерной известности. Но всё-таки я никогда не знал, что олени постоянно ревут, я нигде этого не читал и никогда об этом не догадывался.
Я хромаю вперёд, остальные следуют за мной, чтобы подойти к оленям как можно ближе. При таком низком солнце я отбрасываю тень в десять раз длиннее, чем я сам. С каждым шагом меняется почва под ногами — то мох, то кустарник, то камни; каждый шаг — это новый звук. Сквозь эти звуки слышно только журчание реки. Только останавливаясь, я слышу оленей; точно так же, как и биение сердца слышишь, только лёжа в кровати. Животные уже стоят в воде, но нашего присутствия так и не замечают. До нас доносится позвякивание колокольчиков, которые висят на шее у некоторых самцов. Но даже этот звук не вернёт нас в обитаемый мир.
Вдоль реки, по течению, на нас сносит облака, они такие низкие, что местами касаются земли. Лоскуты белого тумана чертят на нас полосы. Мы медленно возвращаемся к палаткам.
Половина второго ночи. Облака движутся быстрее, чем мы, подхватывают солнце. Сразу становится холодно. У остатков нашего костра мы допиваем остатки кофе, поднимаемся и идём спать. Подойдя к своей палатке, Квигстад оборачивается и кричит:
— Ах! Обнажённая юная негритянка, которая ничего не говорит, а только смеётся!
Мы с Арне забираемся в спальники до подбородка. Теперь это не так мучительно, поскольку с приходом облаков похолодало. Но комары, видимо, хотят укрыться от приближающегося дождя, и в верхушке пирамиды их столько, что достаточно протянуть руку и сжать пальцы в кулак, чтобы убить сразу сотню.
Мы едим изюм, пьём воду и выкуриваем ещё по сигарете. Арне философствует:
— Помнишь, о чём мы разговаривали, когда ты вдруг решил измерить силу тяжести?
— Да, а что?
— Странно получается: никто ничего не делает просто для себя. Я отказываюсь от разных вещей, чтобы разжалобить судьбу, а ты думаешь, что тебя видит твой отец.
— Моего отца не существует, равно как и твоей судьбы, которая бы одобрительно кивала головой и в конце концов вознаградила бы тебя за аскетизм.
— Но твоя мать, она ведь жива?
— Да.
— Наверное, ей пришлось нелегко. В одиночку вырастить детей…
— Ну да, нелегко, но всё же гораздо легче, чем можно было бы подумать.