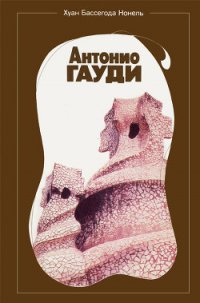Польский всадник - Муньос Молина Антонио (читать книги онлайн txt) 📗
– Педро, звонят по дону Меркурио. Теперь остались лишь ты да я. Помнишь, если бы не он, мы бы померли от лихорадки в тех болотах.
Этот человек посвятил последние годы своей жизни тому, чтобы вести счет оставшимся в живых участникам войны на Кубе, умиравшим постепенно в Махине. Сообщив о смерти дона Меркурио, лечившего их в гаванском госпитале, он, наверное, посмотрел на моего прадеда Педро с чувством безграничного одиночества, потому что теперь их осталось лишь двое в чужом мире живых, и в следующий раз, когда смерть придет, чтобы довершить уничтожение призыва девяносто четвертого года, она должна будет выбрать одного из них.
Моя мать говорит, что однажды этот человек не появился. С тех пор как она поняла, что связывало его с жизнью деда, она стала тайно следить за появлением старика, боясь не увидеть его и, находясь в верхних комнатах дома, выглядывала время от времени на балкон, ища глазами его сгорбленную фигуру, или спускалась на крыльцо и под любым предлогом оставалась рядом с дедом, пока солнце еще блестело на флюгерах Дома с башнями и заливало фигурные водосточные желоба красноватым светом. Сначала, в первые дни после исчезновения старика, она пыталась убедить себя, что он стал ходить другой дорогой или заболел, и не один раз, издалека и при неясном свете, принимала за него кого-нибудь другого. Хотя ни она, ни дед ничего друг другу не сказали, однажды, когда он поднялся со своей ступеньки и медленно вошел в темную прихожую, их глаза встретились, и оба поняли, что думают об одном и том же: с тех пор Педро Экспосито больше не выходил погреться на солнышке у двери и почти перестал разговаривать даже со своей собакой. Именно тогда моя мать стала постепенно допускать с ясностью и ужасом непостижимую возможность того, что ее дед долго не задержится на этом свете, что он незаметно исчезнет из мира, со ступеньки, где сидел, из прихожей, со своего камышового стула рядом с очагом, так же, как бесследно исчез тот старик, появлявшийся в определенный час на углу площади Сан-Лоренсо. С угрызениями совести она замечала, что начала уже отдаляться от деда по безжалостному закону, неизбежно отделяющему живых от мертвых, так же, как больных от здоровых, и проводящему между ними невидимую границу, которую ни любовь, ни сострадание, ни чувство вины не могут преодолеть. Дед глядел на мою мать уже с другой стороны этой границы, со стыдливым выражением жалости и отречения, представляя себе, возможно, как болезненное воспоминание, быстрое окончание ее юности и вступление в жестокую жизнь взрослых людей. Глядя на внучку, он угадывал ее застенчивость и страх, недовольство, вызываемое в ней собственным отражением в зеркале, ее неспособность избегать страданий и осмеливаться желать того, чего бы она действительно заслуживала. Ему хотелось оберегать ее, как тогда, когда она была маленькой и укрывалась у его ног, но он не смог защитить даже свою дочь Леонор и, будто снося медленное унижение, страдал при виде увядания ее красоты и молодости от постоянных родов, неблагодарного тяжелого труда, жестокости и несправедливости моего деда Мануэля, которому он однажды сказал:
– Ты режешь мою дочь деревянным ножом.
Теперь, глядя на свою внучку, дед видел в ней повторение той же безрадостной судьбы, но он уже так устал от монотонного страдания, что желал лишь как можно скорее умереть.
Во время первых визитов моего отца мать, наверное, молча изучала его как возможного врага: это был очень серьезный молодой человек, ходивший за ней, как было положено, несколько месяцев, не пытаясь заговорить, каждый вечер стоявший под ее балконом и посылавший письма, скопированные, без сомнения, из того же учебника, откуда их переписывал тридцатью годами раньше мой дед, – не из неискренности или любви к литературе, а потому что так было заведено. Когда они познакомились? Когда он впервые остановил свой взгляд на ней, почему выбрал именно ее? Девушки прогуливались по воскресеньям, держась под руку, по центральной площади и улице Нуэва, ходили в белых покрывалах на мессу в церковь Санта-Мария и, возвращаясь домой до темноты, утомленные, с уставшими от туфелек на каблуках ногами, смеялись, закрывая рот рукой. Для нее, почти никогда не выходившей из дома, прогулка на площадь Генерала Ордуньи и улицу Нуэва была посещением другого мира, более похожего на кино, чем на реальность, и вызывавшего в ней головокружительное ощущение приключения, блестящих и горьких предзнаменований, так никогда и не сбывшихся. Кудрявая шевелюра с пробором с левой стороны, бант или цветок из ткани в волосах, неуверенная улыбка со сжатыми губами, скрывающими зубы, – это лицо, на которое, как говорят, так похоже мое собственное. Надя смотрит на фотографию и улыбается, молча сравнивая ее со мной.
– Брови, – говорит она, – подбородок, глаза, чернота волос.
Ей нравится узнавать любимые черты в ком-то, кроме меня: наши лица, так же, как память и произносимые нами слова, не принадлежат безраздельно лишь нам самим. Я понимаю это сейчас, когда вижу взгляд и скулы Нади на снимке ее отца, когда узнаю отпечаток ее черт на фотографиях ее сына, с обманчивой небрежностью расставленных по квартире.
Но я уверен, что она никогда не думала, что какой-нибудь мужчина может выбрать ее: любовь казалась ей привилегией других женщин – живших по соседству девушек, которые первыми были просватаны и навсегда перестали выходить на прогулки со своими подругами, женщин из песен и радиосериалов, тех, чьи имена называл ведущий в программах по заявкам в День святого Валентина. Открытки с пронзенными стрелой сердечками и розовыми облаками, на которых возлежали, как на матрасе, подмигивавшие амуры, стихи курсивом, красавчики с приглаженными волосами и тонкими усиками, стоявшие на коленях перед барышнями, как будто из прошлого века, в беседках, похожих на те, что были в нарисованных садах в студии Рамиро Портретиста. Разговоры вполголоса и сдержанные смешки во время уроков шитья, в очереди к источнику или при сборе оливок, страх, стыд и подавленное желание в грозной тишине исповедальни, рядом с решеткой, за которой бормочет отпущение грехов голос, не совсем похожий на мужской. Ночью, прежде чем ложиться спать, когда уже погашены все огни в доме и слышен лишь шум из конюшни, моя мать подходила, дрожа, к балкону в своей спальне и осторожно приоткрывала ставень, чтобы увидеть этот неподвижный силуэт на площади, его диагональную тень при свете лампочки на углу и огонек сигареты. Она услышала его шаги, когда шла по улице Посо, и поняла с боязливым недоверием, что это был он. Она зрительно знала этого юношу, он был сыном торговца овощами и жил по соседству, на улице Чиринос – близко и далеко одновременно, потому что это было за Альтосано, большой, мрачной по ночам площадью, открытой в ненастье всем ветрам. Это была своего рода нейтральная территория, отделявшая смежные кварталы Сан-Лоренсо и Фуэнте-де-лас-Рисас, как будто до сих пор существовала средневековая стена, в которой еще полтора века назад открывалась готическая дверь на улицу Посо. Его звали Франсиско – она это знала, потому что он был другом ее старшего брата, моего дяди Николаса: иногда по воскресеньям она видела их вместе на улице Нуэва, с ними всегда был еще один, меньше их ростом – двоюродный брат Франсиско Рафаэль, последним из них троих начавший зачесывать волосы назад и носить длинные брюки. Я сразу же узнал своего отца на фотографии из архива Рамиро Портретиста, никогда не виденной мною дома, и, найдя среди стольких черно-белых лиц мертвецов и незнакомцев из Махины его черты, еще хранящие в себе отпечаток детства, но уже необратимо формирующие его взрослое лицо, я почувствовал ту же внутреннюю уверенность, что из всех людей именно он и есть мой отец, как в детстве, когда видел его на рынке разговаривающим с другими или обслуживающим толпу покупательниц у своего прилавка. Высокий и молодой, с уже поседевшими волосами, излучавший беспокойную жизнерадостность, которую он почти никогда не показывал дома, в белой куртке, казавшейся мне более чистой, чем у других продавцов, – такого ярко-белого цвета, как только что вымытые стебли белой свеклы, разложенной на мраморном прилавке.