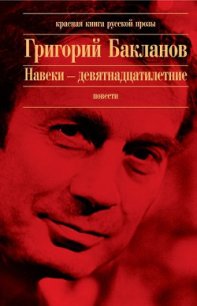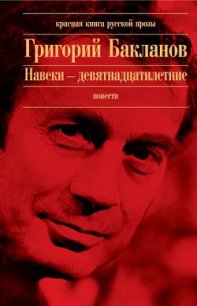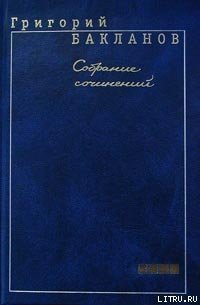Свой человек - Бакланов Григорий Яковлевич (е книги TXT) 📗
— Герой! Ты чего не на фронте?
Раненый был его ровесник, а может, и моложе его; грудь замотана бинтами, рука в гипсе. В подрагивающем на ходу поезда солнечном луче золотилась пробившаяся щетинка на крепком подбородке, на смуглых скулах, и светлые глаза набрякли оттого, что свесился сверху, оттуда смотрел. «Я был там!» — хотелось сказать Жене, но почувствовал, как лживо это здесь прозвучит. И голос блудливо завилял.
— Вот еду призываться…
— Призываться… Играться! Защитничек…
Больше он не вылезал из купе и только поражался, что временами в вагоне раздается смех, не обходили они вниманием и сестричек, а о борще, который разносили в обед, говорили больше, чем о фронте. Наверное, они были примитивно устроены, не способны осмыслять происходящее, ту беду, которая нависла над страной.
И был потом бесконечный путь вверх по Каме. Пароход, набитый беженцами, шлепал по реке, темная холодная вода заплескивалась на палубу, встречный ветер обдавал пресными брызгами. И среди узлов, среди вещей — замотанные, закутанные от холода люди: сидят, лежат, спят, сжавшись. И этот кудлатый крепкий старик, положив чемодан на колени, закусывает на спеша, как на столе:
— Чего отступаем? Жиды с фронта бегут!
На глазах голодных людей, он резал ножичком вареное мясо, розоватое внутри, вволю отрезал себе хлеба, сочно грыз луковицу.
— Да я первый палку возьму и его, подлеца…
Он закашлялся, подавившись, заперхал, заперхал крошками, а Жене Усватову и тех крошек, вылетавших у него изо рта, было жаль, так он изголодался, обессилел весь. От вида мяса, от запаха хлеба и лука все его нутро воспаленное изнывало, сжималось больно.
—…первым палку возьму: не беги, стой, где поставлен! Привыкли за чужие спины прятаться, чтоб другой за них голову клал.
Под бешеным его взглядом в страхе каменела еврейская семья: мать, дочка, бабушка. Евгений Степанович, разумеется, был не еврей и совершенно не похож, но он так отощал, так плохо выглядел, что на всякий случай сидел, не поднимая глаз. И в самом деле, стал он замечать, что на пароходе набилось многовато еврейских семей. И был парень его возраста, худой, навсегда задумавшийся, лицо желтое, жидко обросшее, он закрывался поднятым воротником, то ли нос свой озябший закрывал, то ли загораживался от ветра, одни очки блестели. Он тяготел к Усватову, к ровеснику своему, чтобы держаться вместе, но тот как раз этого избегал. И от семьи от этой отсел подальше, само как-то так получилось.
А пароход все плыл и плыл под низкие темные тучи, вставшие над холодной водой, плыл под них в безвестность. Прошлого не стало, в будущем ничего не ждало, и с берегов наплывали слухи, один тревожней другого. И вот странная особенность памяти: осталось так, будто старик этот и в самом деле пристукивал по палубе тяжелой суковатой палкой, даже рука его узловатая, вся из набрякших мослов, виделась. Но палки не было, Евгений Степанович помнил точно, и он объяснил себе это живостью воображения.
И там же, на пароходе, когда совсем уже оголодали и нечего из вещей было променять, чужая женщина подала им по куску хлеба. Отвернувшись от посторонних глаз, чтоб не завидовали, она отрезала себе с дочкой, но почувствовала взгляд: он смотрел голодными глазами. И не удержалась, не совладала с собой, отрезала ему и матери от единственной своей буханки хлеба. Но мать сказала:
— Мы не можем взять, нам отдать нечем. Разве что ему маленький кусочек…
— А вы не мне, вы кому-нибудь потом отдадите…
И на этом, поданном ей в голодную пору, куске хлеба мать свихнулась окончательно. Сколько ей суждено было прожить, все эти годы отдавала, отдавала свой долг и никак не могла отдать.
Эвакуированных встречали на пристани в маленьком городе местные жители, разбирали по домам, по семьям, проникнувшись общей бедой, а их с матерью пожалела молодая солдатка, увидела, как они, сойдя с парохода, стоят неприкаянные. Она жила в бараке в большой комнате, были там кровать, стол, комод с зеркалом, швейная машина под вязаной накидкой, а на стене в большой рамке — увеличенная фотография, два напряженных скуластых лица: она с мужем. Она нагрела воды, и он, и мать впервые за долгое время искупались по очереди в корыте, поставленном у теплой печи, которая топилась из коридора. И заснул он на полу, на подстеленном полушубке, впервые за долгое время так хорошо, так покойно спал за тысячу верст от войны, будто провалился в мир и тишину. И живот с того дня странным образом успокоился.
Хозяйке было лет двадцать пять, крепкая, полная и лицом красива, так ему, во всяком случае, казалось, — он рядом с ней совершенный заморыш. Скажи он, что был уже на фронте, из окружения вышел, она бы не поверила. А если б поверила, другой был бы спрос: что ж это он, призывного возраста, — в тылу, а не там, где его сверстники, где ее муж, от которого не было вестей?
Когда она, раздевшись в тепле, в одной ситцевой блузке с короткими рукавами, в сатиновой юбке на сильных бедрах, обдавая запахом разгоряченного тела, то на мороз выскочит, то в печке шурует, то простирнет что-либо в деревянном корыте, и все — быстро, споро, на лету, он каждое ее движение взглядом сопровождал, пьянел, она ему ночами снилась, и это были тяжелые сны.
Но в городок прибыл полк, разбитый, потерявший тяжелое вооружение: заново формироваться. И в барак стали захаживать командиры, приносили паек, выпивку, оставались ночевать. Он слышал, как женщины откровенно обсуждают их, сравнивая, кому больше повезло. И однажды она сказала строго:
— Ну что, поночевщики, так и будете жить у меня?
И они с матерью перебрались в холодный коридор, куда выходило множество дверей, жались к топке: найти жилье в маленьком городке, забитом войсками и беженцами, было не просто.
Как-то раз командиры и соседки собрались у нее, жарили на керосинке картошку на постном масле, ах, как пахла эта жарящаяся картошка! Отчего-то он надеялся, что его тоже позовут. Мать, конечно, не позовут, зачем она там, но он надеялся.
До полуночи шло веселье, а когда расходились, он видел, ушли не все. Утром на крыльце она сливала из ковша на жилистую шею капитана, и тот, в нательной рубашке, отфыркивался на морозе, что-то говорил ей, а она смеялась, у Жени все холодело в груди от этого смеха. И ростом этот капитан был ниже ее, и старый какой-то.
Проводив его и сама уходя на работу, она вынесла им с матерью остатки разогретой и вновь остывшей картошки, на блюдечке вынесла, что осталось, как кошке какой-нибудь. И он ел, стыдясь и ненавидя себя, ел, потому что был голоден, сидел в коридоре, у топки, на старом свернутом ватном одеяле, которым они с матерью укрывались ночью, и ел эту недоеденную, из милости вынесенную ему картошку.
Не знал он тогда, что еще суждено ему попасть на войну, но путь его туда будет долог: через училище, через запасные голодные полки, где формировались и уходили на фронт маршевые роты, а он провожал их. И поспел он уже к самому разбору: с тремя звездочками на погонах прибыл прямо в Вену. Но и ему в дни всеобщего торжества, когда ничего было не жаль, ему, находившемуся при штабе армии, тоже выдали орден, не самый главный, но все же боевой орден на грудь, чтобы не стыдно было домой вернуться.
Через много дней после войны отец разыскал его, вызвал телеграммой. За всю преданность не миновало отца то, что остальных, преданнейших из преданных, не миновало: очередь подошла по разнарядке, а может, знал много. Лет семь отсидел он, был выпущен после XX съезда, о котором тем не менее говорил с ненавистью. Жил он в Болшеве, под Москвой: то ли снимал, то ли из милости пустили на терраску, в эдакий застекленный голубятник на втором этаже, куда снесли всякий ненужный хлам, старую мебель. В собственную квартиру он не был впущен. Вторая жена, ради которой он и бросил их с матерью (была она достаточно еще молода, как говорится — в теле), приоткрыла дверь, увидела старца стриженого, беззубого, стоит на лестничной площадке с авоськой в руке, а в авоське — селедка в промокшей газете да бутылка боржома. Увидела, узнала, выйдя (так пересказывали Евгению Степановичу), загородила собою вход, только в щелочку успел он увидеть подросшую дочку в глубине квартиры. «Не порть мне жизнь, ясно? Иди, не порть нам жизнь!» И не впустила в дом, был у нее там кто-то.