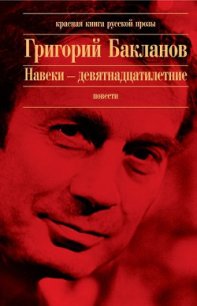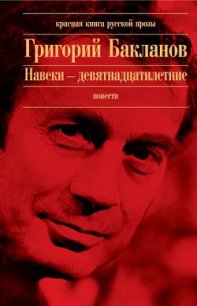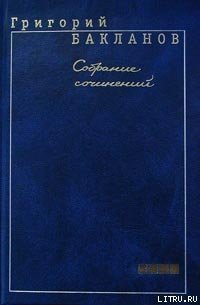Свой человек - Бакланов Григорий Яковлевич (е книги TXT) 📗
Все в классе знали, что он нравится Вере Кизяковой, и он тоже знал это и стыдился ее. Вера жила в бараке. Беленькая, волосы, как солнечная паутинка, гладко зачесанные, кожа на лице прозрачной белизны, все жилочки на висках просвечивают. Как-то пришла на уроки, вся заплаканная: соседи подрались, опрокинули со зла тарелку щей на ее тетради. В промерзающем засыпном бараке, в одной комнате три семьи теснились, за общим столом ели, за этим же столом, на уголке, готовила она уроки.
Но однажды — было это уже в девятом классе — он зазвал Веру к себе домой. За день до этого они ходили с Борькой Пименовым купаться на Москву-реку. И уже возвращались, шли вверх от берега, когда их окликнули. Три женщины загорали, и что-то постиранное было развешано на кустах. Ослепительно белые, совершенно нагие, лежали на траве и с хохотом звали их. Они испугались, убежали, и после стыдно было смотреть друг другу в глаза, читать свои мысли. Он промучился ночь, весь следующий день ходил, как слепой, и тогда зазвал к себе Веру Кизякову. Все происходило поспешно, оба были напуганы, а в коридор в это время выкатились соседские пацаны, и один из них, побиваемый, рвался к нему в дверь, ища спасения.
Потом он бегал от Веры, панически боясь последствий, о которых был наслышан. Она высматривала его, поджидала, но он выходил из школы только с ребятами вместе, один не появлялся. Последствий, к счастью, не было, но страху он натерпелся. И вот когда все обошлось, собрались однажды ребята у Борьки Пименова в его огромной квартире с дубовыми, до блеска натертыми полами, по которым лениво похаживал из комнаты в комнату, постукивал когтями огромный дог. Они на спор толкали гири, отжимались от пола, кто больше, расхвастались друг перед другом. Ему особо похвастаться было нечем, и тут само как-то получилось, он не хотел, но просто чтоб не отстать, рассказал про то, что было у него с Верой Кизяковой. Ему не поверили — «Врешь ты все!», — выпытывали подробности. И после этого ребята стали льнуть к Вере, притискивали ее, он не замечал. И гадок он был себе, тем особенно гадок, что Вера все поняла, он как-то перехватил ее взгляд, когда Борька Пименов нарочно при нем тискал ее. Все этим взглядом она ему сказала.
А потом была война. Впрочем, он уже тогда учился в институте, на первом курсе, у него отросли небольшие мягкие темные усики, приятно было поглаживать их пальцами, и фразу он обычно начинал со слов: «Видишь ли…» Какой подъем был в первые дни войны! Как дружно они все шли в ополчение, как рвались на фронт. На митинге старый их профессор говорил срывающимся на плач голосом, вздымая над собой сухонький кулачок:
— Пусть меня понесут вперед на носилках!..
После небольшого кровоизлияния в мозг он слегка приволакивал ногу.
— Пусть меня понесут, за мной пойдут все!..
Свою легковую машину он отдал еще до того, как начали мобилизовывать транспорт, и на лекции его привозила на трамвае племянница.
Им раздавали оружие прямо из ящиков, стоявших на земле, они подходили по очереди, им вручали винтовки и патроны. Ему досталась австрийская винтовка с тяжелым окованным прикладом, сохранившаяся еще с той войны, к ней полагался, так помнилось ему, ножевой штык, но штыка не было. Из руки в руку передал ему винтовку некий товарищ в военной фуражке, военной гимнастерке без знаков различия и в полосатых гражданских брюках, вручил и напутственно хлопнул по плечу свободной рукой. И каждому он так вручал винтовку и хлопал напутственно: кого по спине, кого по плечу. В осенний беспросветный день в сырой землянке, когда пошли слухи, что где-то на фланге немцы наступают, обходят, вспомнит все это Евгений Степанович, и подумается, что тогда уже, с самого начала определилось, кто будет вручать и напутствовать, а кто пойдет с оружием в бой.
По четыре в ряд сборными колоннами, придерживая винтовки на плечах, во всем домашнем, еще не приладившиеся ни к строю, ни к песне, шли они посреди улицы, сандалии, ботинки, полотняные, начищенные зубным порошком туфли топали недружно, не в лад, полоскались на ногах полотнища брюк, а командиры — кто гордо впереди строя, а кто сбоку — все какого-то не военного, осоавиахимовского вида, уже покрикивали для порядка, и москвичи останавливались на тротуарах, смотрели вслед.
Мог ли он думать тогда, что все так быстро рухнет, и в октябрьской, покидаемой жителями Москве, холодной и темной, к которой подступали немецкие армии, а по улицам носило пепел сожженных бумаг, он будет разыскивать отца, найдет, пробьется к нему, и тот, увидев его, испугается: не за него, за себя. Он понял его испуг:
— Не бойся, я не дезертир. Я вышел из окружения.
Отец поспешно прикрыл вторую дверь кабинета.
— Тише! Здесь не кричат.
Ящики стола раскрыты, отец уничтожал бумаги. И, пробиваясь к нему, к сердцу его, торопясь, стал сын рассказывать, как все там у них произошло, как в последнюю полуторку, в набитый кузов, запрыгивали на ходу, а те, кто не успел, бежали следом по песчаной лесной дороге, хватались руками за борта, а их по рукам, по рукам били, по пальцам. Сенька Конобеев единственный впрыгнул, смог, пальцы измочалены в кровь, а на лице не злость, не обида — счастливая благодарная улыбка. Так бы и его отпихивали, не успей он раньше других втиснуться в кузов, к самой кабине. А ночью, в ледяной воде, когда вброд переходили реку и самый маленький ростом соступил в яму, вынырнул, закричал с испугу, его пхнули в затылок: тони молча! И утонул бы. Жизнь человеческая в такие моменты ничего не стоит, он был там, видел это.
И показалось, отец проникся, прочувствовал, понял. Тогда он осмелился попросить: сейчас набирают в военно-медицинскую академию, еще не поздно, если отец позвонит…
Истощенный, зеленый, жалкий, стоял он по ту сторону стола, где стояли просители и подчиненные. На фронте, когда пошли слухи о немецком наступлении, он видел, как один их студент тайно ел стиральное мыло, срезал ножичком и ел, мыльная слюна пенилась на губах. Он тоже в последние дни, уже не надеясь разыскать отца, ел стиральное мыло, и его проносило с кровью: это на тот случай, если задержит патруль.
Отец нагнулся, захлопнул один ящик, другой, прикрыл дверцы стола, а когда распрямился, это был другой человек, официальный, четкий, чуждый каких бы то ни было посторонних чувств:
— Товарищ Сталин послал на фронт своих сыновей! — сказал он громко не только ему одному, но и всему, что в этих стенах могло слышать.
И сын забормотал ошеломленно:
— Я пойду… Я был… Я не отказываюсь…
Взмолился:
— Пойми, один человек там ничего не решает! Я даже не обучен. Зато после академии, потом…
Отец молчал непреклонно. И сын понял, если он погибнет, отец переживет это: он выполнил свой долг перед родиной, отдал родине сына. И в тот момент он возненавидел своего отца и весь его порядок, при котором жертвуют сыновьями. Мог ли он думать, что, прожив жизнь, еще позавидует отцу, тосковать будет по этому незыблемому порядку.
Что не сделал отец с огромными его возможностями, сделала мать, у которой не было связей, ничего у нее не было. И ведь она не одобряла его, он видел, если бы его забрали на фронт, она, жалея его и любя, приняла бы это как должное. Что-то незнакомое до этих пор, покорность высшей силе, которая в общей беде уравнивала ее со всеми, сделала ее другой. Но и сказать ему: «Иди, воюй!» — она не могла. И вместе с ним прошла весь позорный его путь, о котором он никогда не вспоминал и никому не рассказывал. Это со временем и отдалило его от матери.
Ночью на вокзале их пустили в санитарный поезд. Как мать умоляла начальника поезда, как умолила его, он не знал, но их пустили с их вещичками, среди ночи в тесном купе под стук колес кормили горячим борщом, и был вкусен этот борщ с кроваво-красными от свеклы кусками мяса, кажется, ничего вкуснее в жизни своей он не едал. А после страшно мучился животом, в воспаленном его кишечнике ничего не задерживалось.
Один раз он осмелился, вылез из купе, прошелся по вагонам. С верхней полки свесилась круглая голова, остриженная под машинку.