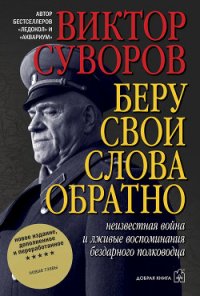Журналюга - Левашов Виктор Владимирович (первая книга TXT) 📗
Он знал все и о теневой стороне российского спорта. Его материалы, часто очень злые, у руководителей спорткомитетов и федераций вызывали резкое недовольство, в других спортивных изданиях на Костычева постоянно ссылались, с ним спорили, его поносили, что придавало спортивному разделу «Российского курьера» дополнительную притягательность в глазах читателей.
Насколько уверенно чувствовал себя Костычев в мире спорта, настолько же робок и скован он был в жизни. Причина заключалась в том, что он серьезно, запойно пил. Ему не раз грозили увольнением и при прежнем главном редакторе.
Но Лозовский, который в свое время сам пригласил Сашу в «Курьер», всегда его защищал. Теперь угроза увольнения для Костычева стала вполне реальной. Не потому, что его запои мешали работе. Оклемавшись, он развивал бешеную энергию и заваливал секретариат материалами. Но он считался человеком Лозовского, а Попов не упускал даже малейшую возможность показать, кто в доме хозяин.
Единственный шанс удержаться в редакции Костычев видел в том, чтобы стать для Попова своим, поддержать ту политику, которую Попов пытался проводить в «Российском курьере». А для этого нужно было отметить и предложить на доску лучших материалы, которые лежали в русле этой политики.
Таких материалов в номере было два. Интервью заместителя начальника ФСНП генерала Морозова имело своей целью продемонстрировать лояльность еженедельника ко всем начинаниям федеральной власти. Второй материал — «Портрет жены художника», шокирующие грязненькими подробностями откровения бывшей жены очень известного живописца — был призван привлечь к «Курьеру» внимание широкого круга читателей и способствовать увеличению тиража. Из-за событий в Театральном центре на Дубровке оба материала несколько раз сдвигались, пока Попов не решил, что хватит бередить раны общества, и поставил их в номер. О том, что эти материалы главные и будут увенчаны лаврами лучших, можно было судить по скромному виду их авторов — корреспондента Стаса Шинкарева и обозревателя отдела культуры Милены Броневой.
Стасу было двадцать три года. На столько он и выглядел — с черными, хорошо постриженными и тщательно причесанными волосами, с миловидным, несколько слащавым лицом. При росте ниже среднего весил он килограммов девяносто и всегда казался Лозовскому похожим на раскормленного первоклассника, на которого напялили крахмальную рубашку, натянули костюм, а на толстую шею повязали модный шелковый галстук. При внешней неуклюжести он был динамичен, как ртуть, легко проникал в высокие кабинеты и брал эксклюзивные интервью у самых закрытых для прессы людей.
Милене Броневой было за тридцать, она одевалась в стиле унисекс, позволявшем скрыть возраст, а недостатки высокой худой фигуры превратить в достоинства. В ее длинном гибком теле и маленькой головке с серыми немигающими глазами было что-то змеиное — гадючье, подсказал Лозовскому его дурной глаз. Милена была непременной участницей всех московских художественно-артистических тусовок, ее специальностью были скандалы в благородных семействах.
При всех различиях Стас Шинкарев и Милена Броневая принадлежали к одной генерации молодых российских журналистов, рванувших в освобожденные от цензуры печать и телевидение, как в Москву после ослабления режима прописки хлынул предприимчивый люд в надежде быстро сделать карьеру и срубить капусты по-легкому. В «Российский курьер» их привел Попов. Чувствуя его поддержку, в редакции они вели себя обособленно, на летучках выступали агрессивно. Нынешняя их скромность была сродни скромности номинантов на церемонии вручения престижных премий, когда никто еще не знает, чьи имена будут оглашены после вскрытия конвертов, а они знают, что это будут их имена.
Но то, что для всех в редакции было очевидным, для Костычева с его замутненными пьянкой мозгами, было темный лес. В расчете на то, что по реакции главного редактора поймет, какие именно материалы следует поддержать, он начал подробно пересказывать содержание номера, каждый период начиная словами «Я с интересом прочитал». И уже на пятой минуте выступления вогнал летучку в состояние угрюмого отупения, с каким пассажир едет в переполненном вагоне метро, притиснутый к простенку, на котором висят «Правила пользования московским метрополитеном», — единственное, на чем можно остановить взгляд. И как бывает всегда, когда человек перестает контролировать себя, на лицах проступили те же следы ущербности и житейских невзгод, которые дурной глаз Лозовского подметил еще в метро.
Уныло нависал над столом для совещаний бурой бородищей и могучей плешью Герман Сажин, шеф-редактор отдела информации, сочетавший в своем характере любвеобильность и благородство, из-за чего женился на всех подряд, и к сорока годам точно не знал, сколько у него детей, которые со страшной силой росли и требовали не только отцовской любви, но и денег. Любви у Германа было с избытком, а вот денег катастрофически и хронически не хватало.
Невидяще смотрела на снежную муть за окном и покусывала полные красивые губы на расслабленном и от этого сразу подурневшем лице Нина Перовская, шеф рирайта, как по новомодному называли отдел проверки, умница, кандидат филологических наук, в одиночку вырастившая сына, ставшего наркоманом.
Вселенская тоска и отвращение к жизни отражались на высокомерном, с легкими признаками аристократического вырождения лице обозревателя международного отдела Яна Оболенского. Вместе с фамилией и породой он унаследовал от предков страсть к рулетке, но не унаследовал удачливости своего прапрадеда князя Иннокентия Оболенского, однажды разорившего, как гласило семейное предание, казино «Пале Рояль» в Монте-Карло.
Лозовский поймал себя на мысли, что и сам он для чужого недоброго взгляда выглядит не лучше других. Плохо выбритый, с брюзгливым лицом, явно не проспавшийся после сомнительных ночных развлечений. Без галстука, в темном свитерке, в сером твидовом пиджаке, с виду невзрачном, хоть и от «Хуго Босса», в джинсах и заляпанных зимней московской солью туфлях. Так что ничего удивительного, что при встрече возле бюро пропусков тюменский нефтебарон не сразу поверил, что перед ним известный московский журналист, на статьи которого он обратил внимание.
Только два человека выглядели нормально, потому что они были заняты делом. Ответственный секретарь редакции Гриша Мартынов, похожий своей короткой стрижкой на взъерошенного ежа, вечно хмурый и раздражительный, как и все ответственные секретари, колдовал над макетом следующего номера.
Вторым был бук-ревьюер, литературный обозреватель «Курьера» Леша Гофман, заядлый автолюбитель в том смысле, в каком это слово употребляется в России: автовладелец, который без конца чинит свои девятьсот лохматого года выпуска «Жигули». Лет десять назад он окончил Литературный институт, подавал большие надежды, но надежд не оправдал, так как очень хорошо знал, как не надо писать, а как надо, не знал. Он читал детективы, боевики, фантастику и женские романы — жевал, как он говорил, литературный попкорн. Он жевал его даже на редколлегиях и летучках, иначе не успевал следить за всеми новинками. Попов был вынужден с этим смириться.
Книги присылали в редакцию издатели и приносили сами авторы. Гофман насобачился с первых страниц угадывать все повороты сюжета. Его короткие рецензии были чаще всего язвительными, авторы и издатели обижались, но книги все равно присылали. Удовольствие, несколько извращенное, он находил в том, чтобы вылавливать из текста что-нибудь вроде «Душа ее чесалась от невыразимости». Когда же попадался такой перл, как «Раздеваясь перед вагиной ее фотоаппарата», он радостно бегал по редакции, демонстрируя всем свою находку.
Обычно Попов живо выражал свое отношение к выступлениям — одобрительно кивал или хмурился, нервно барабанил пальцами по столу, а при особенном недовольстве насупливался и становился похожим на мышь, надувшуюся на крупу. Но на этот раз он сидел с таким видом, словно бы мысли его были заняты чем-то гораздо более важным, чем обсуждение номера. Настолько важным, что он ждет не дождется, когда летучка закончится.