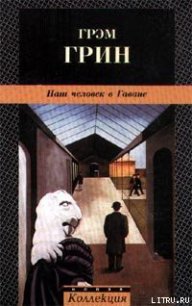Меня создала Англия - Грин Грэм (полные книги TXT) 📗
— Но вы наверняка ее видели, в Лондоне ее часто ставят. Старик Гауэр. «Из пепла старый Гауэр…»
— Я видел «Гамлета» и «Макбета».
— Эти меня не интересуют. «Перикл» — вот величайшая пьеса. По ее поводу у меня есть теория. «Из пепла» — это не из пепла, а «из ясеня». Из ясеневой рощи. Ясень, дуб, терновник — ведь это священные деревья. Старый Гауэр — это английский друид, он старый в том смысле, в каком мы говорим о Мафусаиле; он жрец и король. И вот как я это перевожу; «Из рощи древний Гауэр…» Иными словами «из священной ясеневой рощи друид Гауэр явился к вам» — а никакой не «старый Гауэр». Вы согласны со мной? — Похоже, что так и есть.
Возможно, девушка почувствовала, что Крогу тоже не интересен разговор. Все так же молча она взяла его правую руку и положила перед собой ладонью вверх. В ее действиях не было и тени кокетства — просто она по-своему участвовала в общем разговоре. Мужчины любят, когда им гадают по руке; это поднимает их в собственных глазах; им приятно, когда девушка говорит — «у вас впереди длинная дорога», приятно это касание рук, позволительное, как в танце, приятно услышать предостережение — «остерегайтесь двух женщин, брюнетки и блондинки», в такие минуты им море по колено. — У вас уже готово возражение. Действие происходит в Тире, у замка Антиноха, в Эфесе. При чем здесь, скажете вы, английский друид? — Понимаю, профессор. Действительно, странно. — На это возражение я отвечаю следующим образом: Шекспир ваш национальный поэт; он жил в бурную эпоху славной королевы Бесс, в эпоху националистической экспансии.
— В вашей жизни много удач, — говорила девушка. — Держитесь за теперешнюю работу.
— Откуда вы приехали? — спросил Крог, поражаясь, что ей незнакомо его лицо.
— Из Лунда, — ответила она, трогая пальцем линию жизни. — У вас очень крепкое здоровье, вы долго проживете.
Все-таки приятно это слышать.
— А какая-нибудь неожиданность?
— Ничего такого. Вы трудно обзаводитесь друзьями, — продолжала девушка.
— Вам угрожают мужчина и женщина. Вы очень щедрый человек.
Профессор говорил:
— Я одену Гауэра в символический костюм, олицетворяющий империализм или националистическую экспансию.
— Девушки вас не особо интересуют. Вам больше нравится ваша работа.
— А какая это работа?
— Что-то умное. — Она отпустила его руку, сразу потеряв к нему всякий интерес; отпив пива, она устремила на танцевальную площадку взгляд больших тускло-мраморных глаз. Вскоре с поклоном подошел молодой человек, девушка встала и ушла. Ко всему равнодушная, такая хорошенькая и невероятно глупая, она заронила в душу Крога покой и счастье, но едва он успел осознать это чувство, как оно ушло. Вот так иногда на скверной улице, осторожно обходя смятые папиросные коробки, картофельные очистки, грязь из прохудившихся труб, вдруг почувствуешь свежее дуновение, запах мяты, обернешься (она меня не знала… долгая жизнь… щедрый человек) — но запах уже пропал. Музыка смолкла, за соседним столиком девушка положила перед собой руку юноши, ладонью вверх.
— Когда же вы думаете поставить эту пьесу, мистер Хаммарстен?
— Никогда. Это все так, мечты… У меня нет денег, мистер Франт.
— Фаррант.
— Фаррант. У меня нет связей в театральном мире, импресарио не пустят меня на порог. Кто я такой? Школьный учитель и безумный поклонник Вильяма Шекспира.
(Долгая жизнь… щедрый…)
— Я даю вам двадцать пять тысяч крон, профессор Хаммарстен. — Старик молчал. Он отвернулся от Энтони и с полуоткрытым ртом смотрел на Крога. От потрясения он утратил дар речи. Хотя именно так он всегда представлял себе эту сцену, думал Крог: он годами мечтал о том, что какой-нибудь богач позволит ему высказаться об этой пьесе — как он ее назвал? Забыл — и, убежденный его доводами, даст ему деньги. Старый дурачок раздразнил меня, а теперь не верит, боится, что я шучу. — Позвоните завтра утром моему секретарю, — сказал он.
— У меня нет слов, — мямлил профессор, — я не знаю… — На кончике носа еще оставалось немного пены, он пытался смахнуть ее. — «Перикл»? — спросил он. — В моем переводе?
— Ну разумеется.
Профессор Хаммарстеу неожиданно заговорил:
— В моем переводе — но вдруг он плох? Я не знаю. Я никому не показывал. Вдруг люди не поймут. Друид Гауэр… Ведь сколько лет… — Ему хотелось объяснить, что в конце долгого путешествия начинаешь бояться встречи. Друзья состарились; может, тебя вообще никто не узнает. А что путешествие было долгим — тому свидетели седая щетина на подбородке, плохонькие очки в стальной оправе. — Я перевел ее двадцать лет назад.
— Найдите театр и подберите актеров, — сказал Крог. Ему уже наскучила щедрость. В конце концов, он не впервые такой щедрый. Ему полагается быть щедрым. Сто крон за бумажный цветок, новый флигель для больницы, не уступающая месячному заработку пенсия первой жертве нового усовершенствования резака. Все это попало в газеты, произвело хорошее впечатление. Чем необычнее пожертвование, тем громче огласка, а это бывает очень кстати, например, перед новым выпуском или в такой момент, как сейчас, когда приходится брать краткосрочные займы, сбивать продажу в Амстердаме, терять порядочные деньки. Право, даже занятно, что повезло не кому-нибудь, а жалкому старику Хаммарстену, что именно он нагрел руки на тревогах Лаурина и Холла. Крог почувствовал глубокое презрение к этому престарелому педагогу, подрабатывающему журналистикой, в котором удача породила страх и неуверенность в себе, который не мог удержать очки на носу и сидел как в воду опущенный.
— Прошу прощения, герр Крог, — раздался высокий сиплый голос, и между бассейном, и танцевальной площадкой возник с кепкой в руке седой, тощий, с обвислой кожей на лице Пилстрем. Залитые прожекторами, казались бесцветными его редкие крашеные волосы. Опередив Крога и Энтони, профессор вскочил из-за стола. Он весь дрожал от возмущения, очки прыгали, он сунул руки под черные фалды фрака. — Пилстрем! — Хаммарстен! — взвизгнул Пилстрем и осторожно приблизился. — Старый лгун! — выпалил он. — Стыдитесь!
— Вам тут нечего делать, Пилстрем, — заявил профессор. — Я не позволю вам беспокоить герра Крога. Если желаете знать, Пилстрем, герр Крог приехал сюда обсудить со мной один маленький проект, маленькую сенсацию, для которой нам нужна обоюдная поддержка. Вам нечего тут делать, Пилстрем, вам и вашей газете.
— Однако, Хаммарстен…
— Убирайтесь, Пилстрем, — оборвал его профессор и, ничтоже сумняшеся, позвенел в кармане мелочью. — Джентльмены, вы не откажетесь распить со мной бутылочку вина?
По длинной лестнице на пятый этаж из Чистилища (оставив на другом берегу общественные уборные с похабными шутками, зависть, неприязнь редактора, недоверие, неприличные журналы) — в Рай (школьные фотографии, укромное байковое тепло, жесткая аскетическая постель) восхожу невредимый я, Минти.
Всего ступенек пятьдесят шесть; четырнадцать ступенек — и второй этаж, здесь живут Экманы, у них двухкомнатная квартира, телефон и электрическая плитка; Экман работает мусорщиком, но без денег не бывает. Он частенько возвращается поздно, как Минти, возвращается выпивши и, одолевая свои четырнадцать ступенек, много раз кричит «до свидания» оставшемуся на улице приятелю, и фру Экман, заслышав его голос, выходит на площадку и тоже кричит «до свидания». Не было случая, чтобы она осерчала на пьяного мужа; иногда она сама бывает навеселе, тогда в дверях толкутся и прощаются гости и дым дешевых сигар, разъедая ему глаза, преследует Минти все четырнадцать ступенек до третьего этажа.
Двадцать восемь ступенек — и вот она, пустая квартира. Она самая большая в доме, она обставлена, сдана и всегда пустует. Жильцы за границей, они не были дома уже два года, но квартира оплачена. Минти не видел их ни разу. Он умирал от любопытства и в то же время боялся прямыми расспросами покончить с неизвестностью. Так интереснее. Однажды в квартиру пришла убраться хозяйка, и Минти удалось заглянуть в прихожую; он увидел гравюру, изображавшую Густава Адольфа, и подставку для зонтов, в ней торчал древний зонтик. Он поднялся выше, еще на четырнадцать ступенек увеличив разрыв с Экманами. На четвертом этаже жила итальянка, она давала уроки; он вспомнил коллегу Хаммарстена — эта дама работала с ним в одной школе; следующие четырнадцать ступенек он преодолел уже быстрее — пятый этаж, покой, дом. На двери висит коричневый шерстяной халат, в шкафу какао и галеты, на камине мадонна, под стаканом паук. Устал. И не так уж поздно, а надо ложиться.