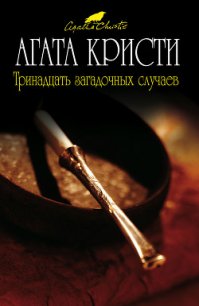Планета мистера Сэммлера - Беллоу Сол (читать книги бесплатно полностью .txt) 📗
В то же время в мозгу мистера Сэммлера все время полыхало какое-то багряное зарево. Возможно, оно каким-то образом было связано с мыслью об Элии Гранере. Оно приняло некую забавную форму, напоминающую огромный алый конверт из воздушной шелковой ткани, с клапаном, застегнутым черной пуговицей. Он спрашивал себя, не это ли явление мистики называют «мандала», и вполне допускал, что было оно навеяно влиянием азиата Говинды. Но ведь и сам он, еврей, не важно, насколько англизированный или американизированный, но еврей, был азиатом. Последний раз, когда он был в Израиле, а было это совсем недавно, он раздумывал, в какой мере евреев можно считать европейцами. Тамошний кризис, свидетелем которого он был, заставлял предполагать более глубокие азиатские корни. Даже в немецких и голландских евреях, решил он. Что же касается черной пуговицы, то не была ли она негативным образом белой луны?
Теплый поток весеннего воздуха струился вдоль Пятнадцатой улицы. Аромат сирени и сточных вод. Никакой сирени не было и в помине, но в парах сточных вод было неуловимое дыхание цветущей сирени, бархатистое и сладкое. Во всем вокруг была мягкость то ли от растворенной в атмосфере сажи, то ли от воздуха, выплеснутого бесчисленным множеством легких, то ли от наложения волн, генерируемых бесчисленными сознаниями, — и все это доходило до него и трогало, — и как глубоко! Время от времени откуда-то вдруг накатывала волна беспричинной неожиданной радости, совершенно непредвиденной, таинственно связанной с шершавой поверхностью песчаника, с уютом прохладных закоулков в недрах жары. Чувство счастья от окружающей обстановки! Было время, когда Сэммлер не поддавался этим физиологическим впечатлениям — испуганный до смешного их неудержимой напористой сладостью. Довольно долго он чувствовал себя не вполне человеком. В это время от него никому не было никакой пользы. И даже себе самому он был тогда неинтересен. Был равнодушен к мысли о выздоровлении. От чего, собственно, выздоравливать? Прежнее Я его мало заботило. У него не было даже собственных мнений. Но потом, через десять — двенадцать лет после войны, он почувствовал в себе начало перемен. В человеческом окружении, в общении с другими людьми, в подробностях ежедневного быта он опять становился человеком — и мало-помалу опять почувствовал вкус к земной жизни. Интерес к ее низменным штучкам, к удовольствиям — по-собачьи взять след. И теперь Сэммлер, в сущности, не знал, что же он собой представляет. Он хотел бы с Божьей помощью быть свободным от уз обыденного и конечного. Быть душой, разорвавшей путы Природы, без впечатлений, без обязанностей. Сам Бог должен был бы ожидать этого от него. Ведь человек, который был убит и погребен, не должен был больше хранить земные связи. Ему следовало потерять интерес ко всему вокруг. Эркхардт весьма многословно доказывал, что Бог любит бескорыстную чистоту и цельность. Самого Бога тянет к душам бескорыстным. О чем, кроме жизни духа, следовало бы заботиться человеку, восставшему из гроба? Однако Сэммлер заметил, что с некой таинственной неотвратимостью человека настойчиво и неудержимо втягивало обратно в суету человеческого бытия. Эти пятнышки внутри человеческой субстанции вечно отбрасывают тень на все, к чему человек обращается, на все, что его окружает. Тень его нервов ложится полосами, как тень деревьев на траве, как след воды на песке, — и полосы сплетаются в легкую сеть. Так произошла вторая встреча бескорыстного духа с обреченной биологической структурой, матч-реванш упрямой человечности.
Вот и здесь — на пути ко входу в подземку на Юнион-сквер приходится слушать разглагольствования Фефера о необходимости купить дизельный паровоз. Какая превосходная деловитость! Как она точно вписывается в комплекс весны, смерти, восточной мандалы и одуряющей сладости сиреневого аромата сточных вод. Чувство счастья от городских кирпичей и городского неба! Чувство счастья и мистический восторг!
Мистер Артур Сэммлер — наперсник нью-йоркских психопатов, исповедник свихнувшихся мужчин и родитель безумной женщины; архивариус безумия. Стоит только однажды занять позицию, однажды начертать линию отсчета, и противоречия уничтожат тебя. Только объяви признаки нормы, и ты будешь сметен половодьем отклонений от нее. Любая позиция может быть осмеяна своей противоположностью. Вот что случается, когда личность из безразличия втягивается вновь в условия человеческого существования. Оживают осколки и аспекты ее прошлого Я. Это бывшее Я хочет утвердить себя, и это бывает неприятно, порой неловко, некрасиво. Это тот, другой Сэммлер, прежний Сэммлер из Лондона и Кракова, соскочил с автобусной подножки на площади Колумбус, охваченный страстным желанием еще раз увидеть черного карманника. Теперь он должен избегать поездок в автобусе в страхе перед возможной встречей. Он был предупрежден, чтобы больше не попадался на глаза.
— Послушайте, — сказал Фефер, — я всегда думал, что вы ненавидите метро. Что это вдруг за перемена? Ведь у вас определенно клаустрофобия.
Фефер был необычайно сообразителен. Его приняли в Колумбийский университет без аттестата зрелости, так как он набрал неслыханно высокий балл на вступительных экзаменах. Он был хитер, расчетлив и проницателен не менее, чем очарователен, остроумен и скор. В его глазах появилась заостренная настороженность, цепкая, как крючок. Сэммлер, тот прежний Сэммлер, плохо противостоял подобной настороженности.
— Это из-за того карманника, что вы встретили в автобусе, да?
— Кто вам рассказал?
— Ваша племянница, миссис Эркин. Я ведь упоминал об этом перед лекцией?
— Ах да, действительно. Значит, она рассказала вам?
— Ну да, и про его наряд, очки и всякие штучки от Диора, и все такое. Вот пижон! А чего вы, собственно, боитесь? Он что, засек вас?
— Нечто в этом роде.
— Что он сказал?
— Ни слова!
— Я вижу, происходит что-то неладное. Вы бы лучше рассказали мне, мистер Сэммлер. Вы ведь, может, не вполне понимаете нью-йоркский язык. Возможно, вам угрожает опасность. Вы должны рассказать кому-нибудь помоложе.
— Вы смущаете меня, Фефер. Бывают минуты, когда в вашем присутствии я на себя не похож. Вы сбиваете меня с толку. Вы такой шумный, такой беспокойный.
— Этот человек что-то вам сделал. Я в этом уверен. Что он натворил? Он что, причинил вам боль? Вам угрожает опасность, вы просто обязаны все рассказать мне. Вы — мыслитель, а не борец, а этот кот выглядит настоящим тигром. Вы видели его в деле?
— Да.
— И он видел, что вы видели?
— Ну да, видел.
— Это очень серьезно. Что он сделал, чтобы выдворить вас из автобуса? Ведь вы звонили в полицию.
— Я пытался. Слушайте, Фефер, вы заставляете меня говорить о вещах, которые мне неприятны.
— Он запугал вас настолько, что вы избегаете автобуса, а вы беспокоитесь о ерунде. Вместо того чтобы беспокоиться о нарушении вашей привычной жизни. Вы что, боитесь его?
— Знаете, это выбило меня из колеи. Сердцебиение было сумасшедшее. Человеческий разум — это загадка. Объективно я мало гожусь для подобных приключений, но есть какая-то непреодолимая потребность в действии, вызванная другими действиями, потребность в гармонии, в соблюдении формы, в тайне и легенде. Я думал, что уже неспособен на обычное любопытство, но, к сожалению, это не так. И мне это не по душе. Мне это все не по душе.
— Когда он вас заметил, он вас преследовал?
— Да, он пошел за мной. А теперь хватит об этом.
Но Фефер и не подумал отстать. Лицо его пылало. Обрамленное старомодной рамкой бороды, оно горело вполне современным азартом.
— Он пошел за вами, но не сказал ни слова? Но каким-то образом он сообщил вам, что хотел? Что же он сделал? Он угрожал вам? У него что, был нож?
— Нет.
— Револьвер? Он угрожал вам револьвером?
— Нет, не револьвером. — Будь Сэммлер в лучшем состоянии духа, он сумел бы отбить атаку Фефера. Но он был в растерянности. Путешествие в метро было тяжким испытанием. Гробница, Элия, смерть, могила, склеп Межвиньского.