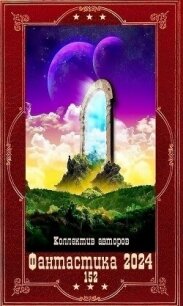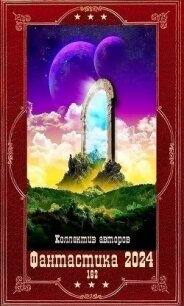Слоновья память - Лобу Антунеш Антониу (хорошие книги бесплатные полностью .txt, .fb2) 📗
Я хожу сюда бог знает сколько лет, подумал врач, оглядывая попутчиков, бóльшая часть которых пустилась в плавание по волнам психоанализа еще раньше, чем он, но до сих пор вас толком не знаю и не могу понять, как познакомиться с вами, как узнать, чего вы хотите от жизни, чего от нее ждете. Бывает, что вдали от вас, я о вас думаю и скучаю, а потом спрашиваю себя, что вы для меня значите, и не нахожу ответа, потому что у меня почти ни на что нет ответа, и я то и дело спотыкаюсь то об один, то о другой вопрос, как Галилей перед тем, как открыл, что Земля движется, и эта истина дала ему ключи ко всем вопросам. И еще врач подумал: что за объяснение найду в один прекрасный день я, что за инквизиция его осудит и кто заставит меня отречься от моих маленьких личных побед, от мучительных побед дерьма над дерьмом, из которого я создан? Он взял со стола, что стоял в центре, треснутую пепельницу и закурил сам, дым рванулся в легкие с жадностью, с какой сжатый воздух наполняет воздушный шар, и пронзил его тело чем-то вроде тихого ликования; психиатр ясно вспомнил свою первую сигарету, выкуренную в одиннадцать лет тайком от матери перед окошком ванной с восторгом оттого, что это — настоящее приключение. «Честерфилд». Мама закуривала их под конец обеда, сидя у подноса с кофеваркой в окружении мужа и детей, и будущий врач следил за дымом, вьющимся вокруг железной люстры на потолке, то растекаясь, то образуя синеватые прозрачные завитки, плывущие медленно, как облака в летнем небе. Отец стучал своей трубкой по серебряной пепельнице с надписью «Дым рассеется, а дружба останется» в серединке, безграничный покой царил в столовой, и психиатра посещала умиротворяющая уверенность, что никто из тех, кто сейчас сидит за столом, никогда не умрет: шестнадцать пар светлых глаз вокруг серебряной вазы, объединенные общностью черт и более или менее долгим совместным прошлым.
Некоторые члены группы расспрашивали женщину о подробностях болезни ребенка, врач заметил, что психоаналитик, казавшийся застывшим в каталепсии, потихоньку скребет ногтем пятнышко на черно-красном галстуке с узором: этот хрен, подумал он, мало того, что уродлив, так еще и одевается из рук вон плохо: вон, даже носки у него со звездочками, просто идеальная униформа для того, чтобы попить водички в кондитерской на Парижском проспекте в компании дамы с жирными боками, затянутыми в шелка цвета сливы, и чернобуркой, сделанной из псориазного кролика, на шее; в глубине души ему хотелось, чтобы психоаналитик одевался в соответствии с его, врача, критериями элегантности, тоже, кстати, спорными и размытыми, когда дело касалось его собственного гардероба: один из братьев любил повторять, что он, психиатр, напоминает остолбеневшего деревенского жениха в необъятном пиджаке и с плохо заглаженными стрелочками на брюках с портрета, сделанного уличным фотографом. Хожу расфуфыренный, как Белый Кролик из «Алисы», и требую от тех, кто хочет заслужить моего уважения, чтобы они появлялись в костюме Безумного Шляпника; так, возможно, мы удостоимся крокета с Червонной Королевой, одним ударом отрубим голову повседневности Повседневья и сиганем прямо в Зазеркалье. Однако он тут же предостерег себя: Вашему Величеству не следует рычать так громко, и все-таки на что похоже пламя свечи, когда свеча погасла?
Третий мужчина в группе, очкарик, похожий на героя «Эмиля и сыщиков» [105], признался, что его бы обрадовала смерть дочери, потому что тогда жена уделяла бы ему больше внимания, чем вызвал ропот различной степени возмущения у присутствующих.
— Твою мать, твою мать, — пробормотал, раскачиваясь на стуле, тот, что недавно дремал.
— Нет, правда, — настаивал третий. — Бывает, так и тянет опрокинуть в кроватку кипящий кофейник.
— Боже мой, — проговорила та, что рассказывала о менингите, шаря в сумочке в поисках платка.
Последовало молчание, которым психиатр воспользовался, чтобы закурить новую сигарету, а отец-душегуб снял очки и тихонько предположил:
— Возможно, всем нам хочется убить тех, кого мы любим.
Психоаналитик начал заводить часы, и психиатр вообразил себя присутствующим на звериной ассамблее под председательством Додо: какая странная внутренняя механика всем этим управляет, подумал он, и какой подземный кабель соединяет несвязные фразы, придавая им ускользающий от меня смысл и плотность? Может, мы стоим на пороге молчания, как в некоторых стихотворениях Готфрида Бенна [106], в которых фразы приобретают неожиданный вес и таинственный и вместе с тем очевидный смысл сновидений? Или мы, как Альберти, «этой ночью я чувствую, как умирают от ран слова» [107], и питаюсь тем, что в промежутках между ними сверкает и бьется? Когда плоть превращается в звук, где плоть и где звук? И где ключ, с помощью которого можно расшифровать эту азбуку морзе, сделать ее простой и конкретной, как голод, желание помочиться или жажда другого тела?
Он открыл рот и произнес:
— Я скучаю по жене.
Одна из девушек, которая еще ничего не говорила, сочувственно улыбнулась, это придало ему смелости, и он продолжил:
— Я скучаю по жене и не могу сказать об этом ни ей, никому другому, кроме вас.
— Почему? — неожиданно спросил психоаналитик, как будто тайно и без предупреждения вернувшись из долгого странствия по своему ледяному нутру. Его голос, казалось, открыл некое притягательное пространство впереди, и психиатру захотелось туда нырнуть.
— Не знаю, — поспешил он ответить, боясь, что отклик, которого ему удалось добиться, быстро угаснет и он окажется перед восемью скучающими или враждебными физиономиями. — Не знаю, или нет, на самом деле знаю. Думаю, меня слегка пугает любовь других ко мне и моя любовь к другим, и я боюсь проживать ее до конца, целиком, отдаваться этому и бороться за это, пока хватает сил, а когда сил не остается, находить в себе еще силы, чтобы продолжать битву.
И он рассказал об огромной любви, связавшей почти на пятьдесят лет бабушку и дедушку со стороны отца, так что детям и старшим внукам приходилось громко топать ногами, подходя к комнате, где они уединились. Он будто снова увидел, как старики сидят за столом, держась за руки, во время семейных обедов, как дедушка гладит бабушку по головке и называет «моя Старушка» с глубокой и очевидной нежностью. Рассказал и о том, как умирал дедушка и как стойко бабушка перенесла его болезнь, агонию и смерть, не проронив ни слезинки, и как угадывалось ее безмерное страдание под маской абсолютного спокойствия без слез и жалоб, и как она шла, вся дрожа, но выпрямив спину, за его гробом, как принимала с вежливой улыбкой соболезнования командира воинского эскорта, сопровождавшего погребальную церемонию ее мужа-офицера, как раздавала детям личные вещи отца и тут же организовала всю жизнь таким образом, как — мы были уверены — дедушке бы понравилось: за обедом стала садиться во главе стола, и мы приняли это как должное, и так и оставалось до тех пор, пока восемнадцать лет спустя не настал ее черед умирать, и она пожелала, чтобы в гроб ей положили ту фотографию, которую он подарил ей на серебряную свадьбу. Врач рассказал и о том, что произнес отец на панихиде, а речь его была буквально такова: Мы все потеряли мать, и врач долго думал над этой фразой, сказанной о бабушке, чья черствость раздражала его, и пришел наконец к выводу, что это правда и что он, прожив тридцать лет, не сумел оценить по достоинству эту женщину и в очередной раз ошибся, как часто ошибался, когда судил о людях, но теперь уже, как всегда, поздно и ничего не исправишь.
— Прошлое не перепишешь, но можно лучше прожить настоящее и будущее, а вы мандражируете — аж поджилки трясутся, — сказала девушка, которая раньше ему улыбалась.
— Так и будет, пока у вас остается потребность наказывать себя, — добавил психоаналитик, внимательно изучая ноготь большого пальца своей левой руки, к которому, похоже, были приклеены микрофильмы с полным собранием трудов Мелани Кляйн [108].