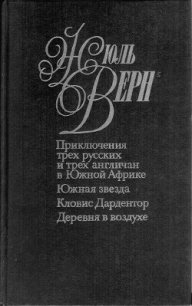Южная Мангазея - Янев Киор (книги серии онлайн .txt, .fb2) 📗
Ян первый раз так близко видел иностранку. В Южной Мангазее ему встречался один чужеземец, похоже единственный на всю их округу, негр-альбинос с обезьянкой на плече. Циркач ли, студент ли, работник Академии наук. Он был южным пульсом города, полюсом тепла, перемещавшимся по всей его территории. Тогда как холод был зафиксирован полярным созвезием вечноснежных пиков, окружавших Южную Мангазею подобно башням белокаменного кремля. Без четкого Юга, имея лишь Север, пространственно город не был сфокусирован, будто не успел сконденсироваться со дня грязекаменного селя, размывшего бывшую царскую крепость в поляроидный раствор, из которого школьник Ян, спрут с пятью подросшими чувствами, выхватывал то девичью ладошку, то тюзовского маскарона, то качавшуюся люстру (пятибальное землетрясение). Зато когда папин сынок поднимался в отцовской черной Волге выше альпийских лугов, ледниковые вершины закрепляли высокогорный ландшафт, время же становилось кочевым и попадались заплутавшие чингизиды и чабаны-колхозники. И, глядя на троллейбусную Эвридику, Ян знал, что как негр с обезьянкой в Юмее, так и эта женщина слегка ощущалась повсюду, насыщала его судьбу, и вот выпала кристаллом, горевшим у него во лбу в головокружительный момент, вечное сейчас, отменившее гравитационные и электрические привязанности, отчего троллейбус, запинаясь, вихлял вдоль проводов, пока при очередной остановке — «Дворец пионеров» — не вывалил ошеломленную Мосгортрансом туристку. Ян смотрел как исчезает свет его очей и вдруг, сметая шлагбаумы бдительных локтей, устремился ей вслед. На улице, недавнем бульваре, из-под полумёртвой листвы юннаты-мародёры споро выбирали ржавую приманку для рыб, упреждая асфальтовый каток, что покрывал подземных королей, сосущих корешки спиленного рая, дымным склепом. Впрочем, в их мшистый гобелен, сотканный взглядами-спицами гордых, забытых дам, уже въелся городской мусор с жестянкой дождевого пива и водомеркой — тиком потерянных шагов. Кротовое наслаждение. Этот енисейский эхолот приволок на пятнистом хвосте гостиничный котенок, у которого разбился недюжинный сервиз буколических жизней на звонкой кухне, готовившей завтрак интуриста. Глазурный круговорот улицы ловил общепитовский траур, напоминая вдовый панцырь лампового радио. Мигающие окна и двери гостиницы «Орлёнок» вычерпывали прохожих сомнамбул точно кастрируя пастушков дня кухоного вида с балалайками. И сувенирный силуэт робкого Леля ещё зыбился снаружи, в московских весях, гас в зрачках необернувшейся беглянки, прикрытой документиком, фиговым листочком среди искусственных пальм и стоматологических кактусов иностранной резервации, когда выкипевший из него дикий адреналин уже бился в контрольной оптике турникета, и дальше, в зеркальном холле, по-индейски преломляясь под висячими хрустальными скалами, но — моментально выпадая незаметным холодным потом на лайковые перчатки портье, потребовавшего предъявить личность. У законной постоялицы! Что-то в ней озадачивало. Пупырчатый нос сексота, как амфибия, окунулся в выпиравшую из лягушачьей кожи паспорта целлюлозу хвощей и плаунов. Быстрая же мимикрия Яна завершилась тем, что в нём, как в поперхнувшейся амёбе, слиплась хорда картавого гостя столицы, эволюционируя взмокшими ручками, и незнакомка, едва отлип служивый, на удивление покорно дала себя увести за барную стойку под беспросветным японским фонариком. — Страж ворот принял меня за русскую проститутку, — раскованно улыбнулась она, — тогда как я, скорее, Inconnue de la Seine. Коралловый лучик кольнул винный полумрак. Ян вдруг почувствовал столь плотное, глубоководное одиночество, когда память ужимается в светящийся неподалёку шар, похожий на тот, что маячит на усиках придонных рыб. Он уже видел упомянутую дореволюционную утопленницу в позеленевшем сестринском журнале из чулана моршанской свекрови. Она напомнила ему истончённых, как репродукции, девственных одногруппниц, размытых на периферии его студенческой жизни, которая даже в звездный академический час оказывалась ниже древесных корней, прораставших сквозь худой потолок институтской галерки во французскую аудиторию — из ветхого купола учебного корпуса. Там вместо былого католического креста угнездилась осинка. Мерцала на закате как святой Эльм, служа ориентиром в замоскворецком переулке, точно жив был ещё курилка, изгнанный из национализированного храма к четырём ветрам, готовым швырнуть его огоньки в тёмные фигуры прохожих и осветить их, как сушёную тыкву на нервных колядках. Подобных тахикардии неумело накрашенных сокурсниц Яна, питомца спецшколы — в гнетущей, с глазастыми шаровыми молниями, атмосфере его языковой славы. Чьи межрайонные лучи он, наконец, обогнал, встретив в густопсовой слободке свою Эвридику! Гражданку лакмусовых царств, высосанных осиновыми корнями из послепотопных радужек колченогой, умилённой до педагогических слез пенсионерки из подчердачной, необязательной кафедры, тосковавшей о дачных сотках в лингафонном, с лютыми сквозняками, домике Элли, занесённом в Замоскворечье.
Ян почувствовал болотный запах коньяков и хересов, напитков из склепа. Чем платить? У него была с собой одна бумажка и пара долларовых наконечников после недавней поездки к питерской кузине Фуриозе, обитавшей в коммунальном полуподвале на мемориальной стороне улицы, наиболее опасной при обстреле. Хвостовое же оперение оставалось у заморских иванушек. С опаской, удлиняя шеи, журавели заглядывали во двор-колодец, бологно тянувший остзейские края в надежде стать пахучим местным морем с хозяйкой — шанелью морскою. Кровяное давление у неё было как в марианской впадине, она дымилась из всех пор, дублёных на лимитной фабрике рядом с городским портом. Ей очень шли бескозырки юнг-отпускников и, особо, французские корабельные береты — с помпончиками на макушке, чтобы дёрнуть и расштопорить вечерние промилли, струившиеся вокруг матросских рёбер, бугристых как у тритонов в петродворцовых фонтанах. Фуриоза общалась с ними скрученным пересвистом, способным пробудить гул древних морей, замерший в мраморных пупах и грудинах. Так что притулившегося за барабанной перегородкой Яна буквально сносило с кухонной раскладушки прямо к варикозным ластам норовистой соседки по коммуналке, ундины чугунного, клеймённого «ятями» унитаза, недовольного с 17 года. Точно так же в дедовской станице под Юмеей, когда детей укладывали ночевать на один топчан под потолочным, вбитым сразу при постройке хаты, крюком для казацкой люльки, разметавшаяся Фуриоза, мучимая острицами, сбрасывала на пол младшего кузена. Впрочем, он предусмотрительно завертывался в профилактическую простыню. Кузен опирался подбородком на край топчана, пахнувшего овчиной, у побитых коленок Фуриозы, полуприкрытых задравшейся китайской ночнушкой, и сонно смотрел на рыжий пушок её подростковых лодыжек в сухих мазках шины ближе к потрескавшимся ступням. При меркнущем свете заоконного фонаря с грунтовой Целиноградской улицы — подбитом красном глазе ангела-хранителя, известного Яну из бабушкиных рассказов. Ангел стал сорванцом, ибо не поспевал за быстрыми проказами хранимого и теперь его рухнувший мозг замирал под черепным небесным куполом над юмейской степью. По ней кочевали воспоминания, потерявшие эфирность. Фуриоза тоже была ангельским воспоминанием, погрузневшим и попорченным. В ней завелись острицы, выползали наружу, цепляясь за рыжий пушок, падали, въедались в глину. В земных недрах личинки развивались, лопались, росли шипастые, чешуйчатые, и, наконец, распускались подземными птицами. Огнеупорные, поднимались в расплавленной магме, расправляя на поверхности выстывавшие, как шлак, крылья в радужных разводах и минеральных окаменелостях — живописную топографию будущих маршрутов и городов Фуриозы. Вроде Питера, каменного дракона с подвижными долларовыми глазами, управлявшими внутренними потоками, в одну из почек которых — в финконтору припортового завода — и устроилась по лимиту выпускница техникума в юмейском пригороде. Она гарно прифарцовывала и на потерю девственности подарила Яну огромный французский дензнак прорыва баррикад, напоминавший ту её детскую потную ночнушку с полудевичьим отпечатком.