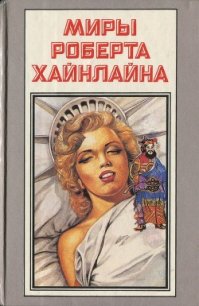Зимой в Афганистане (Рассказы) - Ермаков Олег (мир книг .TXT) 📗
— Вот так, — сказал Иванов. — Это первое. Второе. Когда кого-нибудь били, ну, уму учили, у него глаза были, как у девочки перед первым абортом...
Дверь в палатку приоткрылась, и показалась голова дневального.
— Ротный! — округляя глаза, крикнула сипло голова и исчезла.
Тореодоры подхватились с табуреток и заметались по палатке, разгоняя портянками табачный дым. «Черпаки» и «деды» — по законам общества им можно было сидеть и лежать в одежде на койках — вставали, оправляли постели и рассасывались по углам.
— Давай сюда портянки! — истошным шепотом крикнул Удмурт, и «сыны» побежали отдавать почти сухие, теплые портянки.
Дверь отворилась, и, нагнувшись на входе, чтобы не удариться головой о притолоку, в палатку шагнул старший лейтенант.
— Р-рота-а! — закричал диким голосом дежурный сержант. — Смиррр...
— Отставить, — сказал старший лейтенант, выпрямляясь и проходя на середину.
Он был высок, строен, широкоплеч, у него были насмешливые темные глаза, маленькие твердые губы, раздвоенный подбородок, небольшие густые усы и шрам от левого уха до кадыка.
Он огляделся, обернулся к шумящей печке и покачал головой.
— Приглушить, — обронил он, и «черпак» закрутил вентиль на бачке с соляркой.
— Сказано ведь было, — проговорил ротный.
Неделю назад до сведения полка было доведено случившееся в части под Кандагаром, там сгорел в палатке взвод, — дневальные и дежурный уснули, кипящая солярка вытекла из печки и поплыла по дощатым полам.
Продолжая смотреть на алый бок печки, старший лейтенант спросил солдата, стоявшего у него за спиной:
— Воронцов, что у тебя в руках?
— Ничего, товарищ старший лейтенант, — ответил честным голосом Воронцов. Это был Алеха.
— Уже ничего. — Ротный вздохнул. — А что было?
— Ничего.
— Остапенков, иди сюда, — позвал скучным голосом ротный.
Остапенков вышел на середину. Ротный повернулся к нему.
— Ну скажи: товарищ старший лейтенант, рядовой Оста-а-пенков по вашему приказанию прибыл. Мы ведь не в колхозе, что ты?
— Товарищ старший лейтенант, — начал докладывать Остапенков, застенчиво улыбаясь.
— Что тебе передал Воронцов? — перебил его ротный.
— Ничего. Мне — ничего.
— А кому? Удмурт, тебе?
— Никак нет! — рявкнул Удмурт.
— Воронцов, — сказал ротный. — Вот, допустим, иду я по улице твоей деревни. И встречаю, значит, тебя, Воронцова. Ты с девочкой, при галстуке...
— Я, — лыбясь, сказал Воронцов, — селедку не ношу, западло.
— Не вякай, если не спрашивают, — громко прошептал Иванов.
Ротный продолжил:
— И вот встречаю, значит, тебя. С девочкой. Без селедки. В джинсовом костюме. Ты ведь уже копишь чеки на джинсовый костюм? Или не копишь?
— Не коплю.
— А что так? Все копят. Куда же ты их деваешь? Отбирают, мм?
— Нет. Я все на хмырь трачу, — поспешно пробормотал Воронцов.
— "Хмырь", «западло», — поморщился старший лейтенант.
— Ну, на печенье, на конфеты там...
— Не нукай, не на конюшне, — опять послышался шепот Иванова.
— Ладно. Встречаю я тебя, разуваюсь, снимаю драные свои носки, которые не стирал год, протягиваю тебе и говорю: быстренько выстирай и высуши, а то я тебя вы... — он сругнулся, — и высушу.
Все засмеялись.
— Что бы ты мне ответил? Дал бы раз промеж глаз, и весь сказ. Так?
— Куда ему против вас, — сказал кто-то из «дедов».
— Ну, дружков бы свистнул или кувалду какую-нибудь схватил бы. Так?
— Нет, — преданно глядя на ротного, ответил Воронцов.
Ротный улыбнулся.
— Ну не я, кто-то другой. Какая разница. Вон Стодоля, например. Вот что бы ты ему ответил?
Воронцов посмотрел на Стодолю.
— Ему? Ха-ха.
— Вот именно. Так какого же ... ты здесь не посылаешь всех этих на ... ? Говори, кому портянки сушил, — строго сказал ротный. — Или пойдешь на губу.
— За что? — растерялся Воронцов.
— За все хорошее. И почему в палатке воняет дымом? Ты, что ли, накурил, Стодоля?
Все опять рассмеялись. Стодоля был единственным некурящим в роте.
— Ты, да?
Стодоля покачал головой.
— Не ты. Кто же? Ну, отвечай.
Стодоля молча глядел на него.
— Почему молчишь?
Все настороженно затихли.
— Я не знаю, не видел, — чугунным голосом ответил наконец Стодоля.
— Конечно, откуда тебе знать. У тебя голова занята чем угодно, только не службой, текущую действительность, так сказать, ты не замечаешь, спишь на ходу. Что мне, беседовать с вами в закутках? Чтоб никто не видел и не слышал, да? Или, может, вы мне анонимки начнете присылать? Заведем такую моду? Никто ничего не знает, никто ничего не слышит, их кантуют, они молчат, им квасят носы и фонари ставят, они: упал, шел, поскользнулся, очнулся — фонарь. Ну, когда-нибудь я вас всех распотрошу! Не улыбайся, Остапенков, ты первым пойдешь в дисбат! — Ротный замолчал и взглянул на часы. — Полковая поверка отменяется, — сказал он.
Солдаты радостно загудели.
— Дождь. А на носу Новый год. Так... Ну, все вроде на месте? Дежурит сегодня кто? Топады. Топады, кто у тебя дневальные?
Сержант Топады назвал три фамилии.
— Опять все молодые. Так не пойдет. Переиграем. Удмурт будет дневалить, Иванов и Жаров. Вопросы? — Ротный снова посмотрел на часы и направился к выходу. — Через полчаса отбой, приду проверю, засеку кого в вертикальном положении — пеняй на себя. Службу, дневальные, не запорите. Все.
— Я не буду дневалить, — сказал Жаров. Это был толстый солдат, весь вечер певший себе под нос песни. Он был «дембель», последний из могикан, — все его товарищи еще месяц назад уехали в Союз, домой, а его задержали из-за драки с прапорщиком. Этот прапорщик имел обыкновение сидеть в офицерском туалете по вечерам и следить в дверную щель за мелькавшей над занавесками в освещенном окне кудрявой головой. У Вали, машинистки из штаба, в полку был богатый выбор, и прапорщику, нехорошему лицом, худосочному и потасканному, как говорится, не светило. И по вечерам он сидел в туалете напротив ее окна. В тот злополучный вечер прапорщик перевозбудился, увидев между занавесками белую грудь и кусок живота. Посреди ночи он проснулся, он ворочался, ворочался, но так и не смог заснуть, — все эта грудь с коричневой вершинкой и белый кус живота мерещились; прапорщик встал, оделся и пошел, сам не зная, зачем, под окно Валечки. Окно оказалось приоткрытым, он отворил створки, полез в комнату и увидел белеющие в темноте задыхающиеся тела, тут же одно тело подскочило, и прапорщик слетел с подоконника, заливая мундир кровью из носа. Прапорщик молча поднялся и опять полез в окно и вывалился вместе с полуодетым солдатом. Они катались по земле, хрипя и колотя друг друга. Валечка закрыла окно и смотрела на них, кусая губы и злобно охая. Командир танкового батальона, вышедший по нужде, увидел их и, решив, что в полк проникли враги, вбежал в офицерское общежитие и крикнул: «Тревога!» На допросе, который вел сам начальник штаба, прапорщик врал, что увидел, как кто-то пытается открыть окно, и схватил взломщика, а тот начал драться, а Валечка твердила, что ничего не знает, солдата видит впервые, прапорщика тоже, — она спала, а потом услыхала шум, крики, стрельбу. Жаров нес дичь, спасая Валечкину репутацию, которая была давно и до последней нитки промочена. В конце концов начштаба запутался в этой истории, прекратил дознание, отчитал Валечку и прапорщика, а сержанта Жарова разжаловал, упек на десять суток и пообещал, что Новый год тот встретит в полку, а не дома.
— Не козлись, Жаров, — мягко сказал ротный. — Ты же знаешь, я давно отпустил бы тебя, но... По мне — лежи ты лежмя сутками. Но командование интересуется, служишь ты или груши околачиваешь. Не могу же я врать, посуди сам.
— Не буду я дневалить, — равнодушно повторил бывший сержант. Он снял ремень. — Пишите записку начкару.
— На губе сейчас холодно.
— Пишите, — угрюмо сказал Жаров.
— Ты мне надоедать начинаешь.
— Пишите.