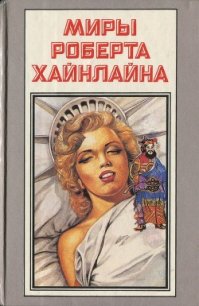Зимой в Афганистане (Рассказы) - Ермаков Олег (мир книг .TXT) 📗
Но и сказать «нет» язык не поворачивался.
Раз я молчу, значит, да, со страхом думал он.
И потом это письмо. Он не успел его уничтожить. Письмо отобрал Иванов, Ей приснился скверный сон, и она написала это письмо, похожее на молитву, и в каждой строчке был Бог. «Деды» накинулись на Дулю с вопросами, но он молчал.
Иногда к нему приходила спасительная мысль: письмо написал не я, а моя девушка.
Чем дольше он молчал, тем труднее было молчать, и все страшнее что-либо сказать. И лучше было ни о чем и ни о ком не думать и ничего не вспоминать, но...
Пух реял в солнечном спертом воздухе над прохожими, газетными киосками, машинами; пух косо пролетал вдоль домов, касаясь пушистыми щеками каменных шершавых горячих стен, цепляясь за корявые края железных подоконников, и смело вплывал во все открытые форточки. Он хотел закрыть окно, но она сказала: пускай, — и окно было растворено, и в него влетал пух.
Покуда она варила на кухне кофе, он бродил вдоль книжных полок, занимавших две стены в зале, это была библиотека ее отца, хлебозаводского пекаря; там было много старинных книг, потертых, тяжелых, угрюмых; он высмотрел книгу с черной розой на корешке и раскрыл ее, это был сборник китайских поэтов эпохи Тан. Его насмешили заглавия стихов: «Изображаю то, что вижу из своего шалаша, крытого травой», «Рано встаю», «Стихи в пятьсот слов о том, что у меня было на душе, когда я из столицы направлялся в Фынсянь», «Весенней ночью радуюсь дождю». Это было похоже на тополиные белые комья, доверчиво льнувшие к серым домам и влетавшие во все раскрытые форточки, и было похоже на ребенка, бегущего от матери навстречу незнакомому прохожему, и на человека, который идет по людной улице и, думая о чем-то смешном, не может совладать с губами, глазами, щеками и улыбается. У поэтов были шуршащие, звенящие и шепчущие имена: Ян Цзюнь, Ханьшань, Ван Вэй, Лю Чанцин, а одно было слабым ветром или дыханием спящего — Ду Фу.
Они читали вслух. Сначала читали попеременно, но у него плохо получалось.
Сычуаньским вином
Я развеял бы грустные думы -
Только нет ни гроша,
А взаймы мне никто не дает, -
читал он, и это выходило как-то плоско и обыденно, как если бы подросток жаловался товарищу на родителей, которые отказываются купить ему джинсы или магнитофон. Он это почувствовал и больше не читал. Читала она. И стихи были тем, чем они были: вздохами, слезами, весенними дождями, жалобами, травами, птицами, горами, башнями, деревьями, водопадами и снежинками величиной с циновку. Потом она начала читать стихотворение Ду Фу «Прощанье новобрачной»:
У повилики усики весною
Совсем слабы.
Так вышло и со мною:
Когда в деревне женится солдат,
То радоваться рано... -
и вдруг замолчала. Она опустила голову и закрылась книгой. Книга в ее руках вздрагивала. Он поцеловал побелевшие пальцы, влипшие в обложку, и она разрыдалась.
Это был еще только июль, впереди было два с половиной месяца, он надеялся поступить в институт и всерьез не думал об армии и тем более о войне, но она плакала и бубнила, что все плохо и плохо. Но почему же? — спрашивал он, а она отвечала: я не знаю, не приставай ко мне, уходи, не мешай мне заниматься.
Был только июль, начало июля, он просиживал дни над учебниками, готовился к вступительным экзаменам и ясно видел будущее: пять лет они проведут в институтских аудиториях и библиотеках, потом поедут учительствовать в какую-то далекую деревню за еловыми лесами и сизыми холмами; у них будет свой дом и свой сад, весною сад будет бел, осенью они станут собирать по утрам яблоки в корзины — вот и все. Правда, ей не хотелось в деревню. Но он был непоколебим. Еще в девятом классе он прочел «Житие протопопа Аввакума» и с тех пор был снедаем желанием как-нибудь положить жизнь на алтарь. Как положить свою жизнь на этот самый алтарь, он не знал, и мучился от мысли, что не найдет алтарь и впустую и скучно проживет. А в сердце тлели проповеди строптивца: "Опечалившись, сижу, рассуждаю: что делать? Проповедовать ли слово божие или скрыться где-нибудь? Потому что жена и дети связали меня.
И, видя меня печальным, протопопица моя приступила ко мне с осторожностью и сказала мне: что ты, господин мой, опечалился?
Я же ей подробно сообщил: жена, что делать? Зима еретическая на дворе; говорить ли мне или молчать? Связали вы меня!
Она же говорит: господи помилуй! Что ты, Петрович, говоришь? Слыхала я — ты же читал апостольскую речь: если ты связан с женою, не ищи разрешения; когда отрешишься, тогда не ищи жены! Я тебя вместе с детьми благословляю: дерзай..."
И только под конец школьной жизни он отыскал этот алтарь, читая о народниках, уходивших учительствовать в деревню.
Они еще готовились к экзаменам, но спорили так, будто завтра-послезавтра получают дипломы. Она предлагала компромисс: три года, как того требуют правила, отработать в деревенской школе и вернуться. Но несгибаемый Петрович нашептывал ему другое, и он доказывал, что ехать нужно навсегда, до гробовой доски, и жить в глуши, и просвещать все такой же темный, несмотря на электрификацию плюс телевизор, народ. И к тому же, думая о будущей жизни в деревне, он влюбился в белый сад и в деревянный дом с широкими окнами и большой, основательной, как средневековый замок, печью.
В окно, медленно переворачиваясь, вплывали белые комья, и впереди было пять лет учебы в институте и долгая жизнь в доме, вокруг которого белеет сад, а она закрывалась книгой и плакала.
В институт он не поступил.
Он вздрогнул, услышав резкий звук. Это Остапенков бросил карты на табуретку.
— Ты что, язык сожрал? — спросил он сквозь зубы.
— Да козе понятно, — сказал Санько, — ну. Чего он молчит? И чего баба в письме через слово божится, ну. Надо замполиту сказать и ротному.
— Нет, сами разберемся, — отрезал Остапенков. — Не отмолчится. Уж как-нибудь развяжем язык. Или я не я.
— Не, но козе ж понятно, — возразил Санько.
— Мы не козы, — ответил Остапенков и заиграл желваками.
— Ну вот что, — тихо и решительно проговорил татарин Иванов. Он поднял свои круглые ясные глаза и уставился на Дулю. — У нас в леспромхозе, — не торопясь, заговорил он, — был один баптист. Или там адвентист седьмого дня.
Удмурт засмеялся.
— Короче, святоша, — продолжал Иванов. — Я знаю эту породу. Изучил. Ты ему, например, по пьяни скажешь чего прямо в глаза, а он, как девочка перед первым абортом...
— Значит, уже не девочка, — заметил Удмурт.
— Как перед первым абортом: побледнеет и задрожит. Ответит: зачем вы это говорите, зачем вы так.
— А ты ему в рог, — сказал Удмурт.
— Да-а, мараться. — Иванов брезгливо повел плечами.
— Ты говорил — факты, какие? — нетерпеливо спросил Остапенков.
— Будут факты. Алеха! — крикнул Иванов. — Ко мне!
С табуретки сорвался один из тореодоров, круглый, низкорослый, смуглый парнишка. Он прибежал, остановился, шмыгнул вздернутым носом, оглядел текучими глазами лица «дедов» и бойко сказал: «Я!»
— Глядите на них, — предложил Иванов. Все поглядели на двух «сынов».
— Ну, Алеха, как оно? Как житуха? — спросил Иванов.
Алеха взглянул на него вопросительно и, что-то такое прочитав в его глазах, ответил довольно развязным тоном:
— Нас е..., а мы мужаем!
— Хах-ха-хах!
— Пфх-ха-ха-ха!
— Ну, Алеха, иди, — с доброй улыбкой сказал Иванов. — Видели? — спросил он у товарищей.
— Ну, видели, и что? — спросил Санько.
Иванов посмотрел на него с отеческой укоризной.
— Я давно замечал, я с первого дня это заметил, что этот Дуля, эта Дуля не такая, не такой, как все. Все сыны как сыны, а... Ну, вот вам первый факт, — веско сказал он. — Кто слышал, как Дуля матерится? Кто, — он повысил голос, — помнит, чтобы Дуля ругался?
В палатке все притихли. К месту судилища потянулись любопытные. «Деды» подходили и усаживались, ухмыляясь, на кровати и табуретки. Приближались и «черпаки»; «сыны» и «чижи» слушали издали, вытягивая шеи и пугливо косясь друг на друга.