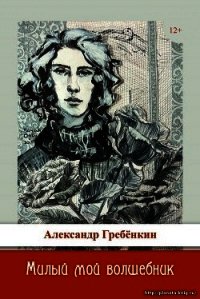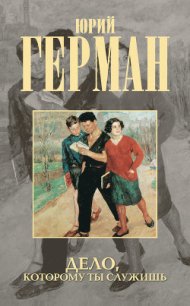Я отвечаю за все - Герман Юрий Павлович (книга регистрации txt) 📗
— Это в каком смысле — одушевлен?
— В смысле рабочего энтузиазма. Назначен вашим заместителем.
— Как так?
— Вчера Виктор Семенович подписал приказ.
Штуб молчал. Генерал-полковник Абакумов В. С. вступил в игру — вот что все это значило. Не больше и не меньше. И никуда отсюда не денешься! И совершенно понятно, чем и как скоро это кончится. Впрочем, это было понятно еще полтора месяца назад, когда на его докладной о невиновности Устименко А. П., точнее, на его объяснениях по поводу причин, по коим она была сактирована, Абакумов начертал резолюцию «чепуха» и выгнал Штуба из кабинета. Или почти выгнал. Высокий, красивый молчаливый Абакумов…
— Значит, со щитом вернулся товарищ Бодростин?
— Так точно. Недаром он пробыл там столько времени. Кроме того…
— Что еще?
— Еще приказано вам выехать в Москву.
Август Янович снова ничего не сказал.
— Вы слушаете?
— Все понятно, — наконец произнес Август Янович. — Я буду попозже.
— И… поедете?
— Приказ есть приказ.
— Но…
— Потом поговорим…
Только положив трубку, он понял, какой зажатый голос был у Виктора. Зажатый и замученный. Словно ему самому предстояло ехать в министерство, являться пред грозные очи Абакумова. Словно на его докладной было начертано «чепуха». Впрочем, Гнетов был не из тех ребят, что в любой момент готовы отмежеваться. Так же как и Колокольцев…
«Ехать?» — еще почти спокойно спросил себя Штуб.
И нашел в себе силы умехнуться:
«А что изменится, если не ехать?»
Где произойдет неизбежное? Но какое это имеет значение? Нет, пожалуй, это имеет некоторое значение. На глазах Зоси и детей или в далеком далеке.
Нужно было встряхнуться! Слишком вяло он себя вел. Нужно было взять себя в руки. Шло же время! Но это было не так-то уж легко — встряхнуться.
Он прошелся в войлочных туфлях по тихой квартире. Дети уже ушли в школу. Зося опять прилегла. В столовой стояли две раскладушки — Алика и Крахмальникова. Девчонки, конечно, все оставили неубранным. Кот спал на кровати Тутушки. А в столовой лежал томик Пушкина. Все-таки он заразил мальчишек, читая им вечерами удивительные строфы.
И сейчас он прочел:
— Но строк печальных не смываю, — повторил негромко Штуб. — А они были?
И ответил, остро глядя перед собой из-за толстых стекол очков:
— Были. Я уже понимал, но сдерживал себя, чтобы не понять до конца. Я понимал это еще до войны. Разве я не понимал тогда, в Москве, ожидая назначения? А с Крахмальниковым?..
Голова у него гудела от тяжелой ночи, и, бреясь, он удивился отечному лицу и желтому цвету кожи. Желто-серому… Хорошо, что дети уже ушли. Он бы не мог с ними сейчас болтать.
«Но строк печальных не смываю», — опять прозвучало в его ушах.
«Когда впервые возникла эта мысль?» — вдруг спросил он себя, тщательно добриваясь. Когда он подумал о возможности такого выхода для себя?
И ответил:
«В больнице, когда за окнами было совсем бело и когда „монстр“ Крахмальников объяснял причины своего поступка. Вот тогда».
— Штубик, это ты там ходишь? — сонным голосом спросила Зося.
Он ответил: «Побрился, умылся». И сел на край ее кровати. Рядом на тумбочке лежали книги, и он понял, что она долго читала втихаря, покуда он прикидывался, что спит. Все-таки вчера еще была надежда, что Бодростин вернется ни с чем. Маленькая, едва ощутимая. Нет, майор недаром два месяца потратил на это, по его словам, «ясное дело». Даже больше — шестьдесят четыре дня, — так он сам сказал с гордостью. И Штуб, листая прочно прошитые папки, вздохнул:
— Да, ясное…
Весь ужас заключался в том, что Бодростина невозможно было разубедить. Да, конечно, начальником оставался Штуб, наибольшим и главным в Унчанском управлении несомненно значился он. Однако — всего только значился. Начальник, песня которого спета, начальник, который по существу уже не начальник: просто сидит в кабинете потому, что руки в министерстве не дошли; но дойдут, вопрос только в дне — сегодняшнем, завтрашнем, в крайности послезавтрашнем.
И Бодростин это чувствовал.
Настолько чувствовал, что даже не возражал своему начальнику, поскольку тот таковым уже и не был, а лишь числился с тех самых минут, когда в приемной Абакумова писал «объяснительную записку» по поводу Устименко А. П. и Бодростин при сем присутствовал — его тогда тоже вызвали в министерство. Выутюженный, вымытый и выбритый, некурящий и непьющий, с застегнутым выражением лица и с упорным взглядом.
…Когда только еще заваривалась вся эта каша, Штуб ударил кулаком по столу. И встретил взгляд синих, чистых глаз. Спокойный взгляд убежденного в своей абсолютной правоте человека. Выдержанного товарища. Отличного докладчика по вопросам преступного притупления бдительности. Корректного работника. Спокойный, но недоуменный взгляд.
— Тут, в сущности, сделана попытка дискредитировать и Золотухина, и Лосого, — сказал тогда Штуб. — Тут имеются намеки на то, что в передаче здания «Заготзерна» под больницу, так же как и в ряде других случаев…
Бодростин возразил: без указаний Москвы «в отношении работников этой номенклатуры», разумеется, не будет сделано и шагу. Но известно ли товарищу полковнику, что, например, Лосой, командуя артиллерийским дивизионом, с шестнадцатого ноября сорок первого года находился в окружении и лишь к концу декабря…
— Послушайте! — воскликнул Штуб.
— Слушаю, — вежливо ответил Бодростин.
Они оба молчали довольно долго. До тех пор, пока майор не обратил внимание Штуба на тот факт, что не кто иной, как находившийся в окружении Лосой дал согласие Устименке привлечь Гебейзена к работе в больнице. И проживание австрийца в Унчанске тоже санкционировано Лосым. Не без ведома Золотухина.
…Зося все еще дремала, поглаживая руку Штуба. «Ей видится, что все дома и все спят», — подумал Август Янович. И страшная, небывалая тоска сдавила его сердце. Тоска последнего расставания.
Но он справился.
Еще не то ему предстояло!
«Толковый работник», — сказал про Бодростина Абакумов. Именно в это мгновение Штуб, в сущности, стал подчиненным майора. Зиновий Семенович этого не знал и не мог знать. Но многое уже делалось через голову Августа Яновича. Многое проходило мимо него. За его спиной. Еще раз была обследована его биография — та ее часть, довоенная. И слова были возобновлены и освежены в памяти тех, кому ведать надлежит: «либерализм, граничащий с пособничеством врагам народа»; «прямое пособничество»; «дискредитация органов, которые…».
В последнюю свою поездку в министерство с биографией Штуба ознакомился и Бодростин. Все было, как он предполагал, — чужой, видать, человечишко этот Август Янович. Или враг, что вероятнее. Удивительно, как это его раньше не разоблачили. Измену, предательство, контрреволюцию и вредительство новоиспеченный заместитель Штуба видел повсюду и притом видел совершенно искренне. Ни в задор юности, ни в безоговорочность прямоты, ни в преувеличения спорящего ради спора — ни во что это он не верил никогда. В глупости он непременно видел заранее обдуманное намерение врага, в любой небрежности — сознательное преступление. Что такое просто дурак — этого Бодростин не понимал, хоть сам был человеком, казалось бы, неглупым. И так страшна была сила его фанатической убежденности, что люди послабже его нередко поддавались ему, подчинялись, начинали верить в то, во что веровал он, как веруют сектанты.
— И Лосой, и Золотухин совершили ряд поступков, объективно поведших к ущербу государству, — сказал Бодростин после их первой совместной поездки к Абакумову. — Я ни на чем не настаиваю, но обращаю ваше внимание, товарищ полковник, на показания снабженцев Вислогуза, Салова и других. Листы дела сто девяносто четыре, двести сорок, двести сорок семь тома второго…