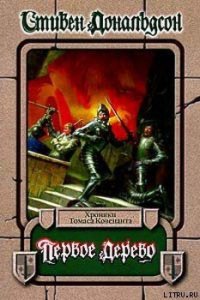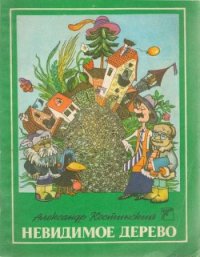Зверь дышит - Байтов Николай Владимирович (библиотека книг бесплатно без регистрации txt) 📗
— Кто?
— Блезе с Профессором!
— Неужели?
— Не сомневаюсь. Судя по твоему рассказу…
— Жизнь куратора… — Ты бы ещё сказал: «прокуратора». — Я не говорю «прокуратора» и не собирался этого говорить. И не собираюсь. Не надо опускать меня на полуслове. — Вот как раз: ты сказал полуслово, а я сказал полное. — Вот и не надо. Я же сказал… Так вот, жизнь художественного куратора, друзья мои… — Да, мы твои друзья. Ты доволен? Что дальше? — Дальше? А вот что: она полна компромиссов с собственной совестью. — Кто «она»? Не понял… — Повторяю отчеканенный тезис: «жизнь художественного куратора полна компромиссов с собственной совестью».
(— А у жизни есть совесть?? Кажется, это не по Дарвину…)
— Ну, удивил! А с чьей иной совестью она может быть полна компромиссов? С моей, что ли?
— А у тебя она есть?
— Кто? Жизнь или совесть?
— Лефевр хорош, но бо?льшая часть людей происходит вообще без рефлексии. Особенно в минуты максимальной интенсивности. Чего тут говорить.
— Вчера я ехал в метро, — сказал мне Гога, — вечером, довольно поздно. В вагоне сидело два-три человека…
— Куратор, если он опытный, прекрасно понимает, что перл, а что дерьмо…
— Ерунда. Куратор понимает не это. Куратор знает, как сделать из дерьма перл. И делает, если ему это выгодно. Если его, так сказать, заинтересуют…
— Пиратская пиар-акция.
— Так я про то и говорю…
— Два-три человека, — продолжал Гога. — Вагон почти пустой. Я сидел, закинув ногу на ногу…
— Про что ты говоришь?
— Я начал говорить про компромиссы, а вы мне не даёте…
— Это не компромиссы, а сознательный расчёт. И чем умней куратор, тем этот расчёт более дальновидный. В контексте общего направления культуры, — так скажем…
— Но совесть-то ему говорит другое! Совесть и собственный вкус…
— Сидел, закинув ногу за ногу. И вдруг какой-то человек идёт по вагону. И, проходя мимо меня, пихнул мою закинутую ногу, — довольно больно. И говорит: «Не сиди так!»
— Если у него есть собственный вкус, то он не куратор. И совесть тоже сюда не относится. Она — из другой оперы песня.
— Ха-ха! Служитель искусства, стало быть. Жрец!
— Да просто музейный работник.
— Козёл тот, кто на козла обижается.
— На козла или на «козла»?
— «Не сиди так», — говорит мне внушительно. И сел напротив меня. И смотрит строго. Я перекинул другую ногу на другую и говорю: «А так — можно?» И смотрю на него спокойно. (По возможности, конечно, спокойно, а сам побаиваюсь.) Так секунды три мы смотрели друг на друга, потом он пробормотал что-то, — кажется, ругательное. Встал и пошёл по вагону дальше. На следующей остановке вышел.
Мелкие действия до поры до времени заполняют время, не давая тебе остаться один на один с его пустотой. Вот убрал в шкаф рюмку, включил компьютер. Потом достал с полки пачку сигарет, вскрыл её и переложил — одну за одной — сигареты в портсигар. Пошёл на кухню, налил чаю в стакан. Вымыл в раковине нож и вилку. Вернулся в комнату со стаканом. Достал из буфета бутылку бальзама, отвернул пробку и влил в стакан на оставшуюся треть. Отхлебнул. Вызвал проводник и скопировал с флешки на диск две папки, которых изменился состав: «стихи новые» и «стихи опубликованные». Затем очистил корзину. — Всё это делается для того, чтобы не остаться лицом к лицу с необходимостью делать нечто другое, а что — неизвестно… Выудил из портсигара сигарету, подошёл к окну и раскрыл. О, какой запах! — Сирень цветёт внизу в палисаднике. Покурил, глядя на окна противоположного дома. Вернулся к столу, оставив окно открытым. Что теперь?.. — Вдруг услышал, что на кухне стиральная машина кончила работу, затихла. Полвторого ночи. Пошёл туда, стал вынимать бельё и развешивать на верёвках. Бельё висит. Вынул машину из розетки и на её место вставил обратно чайник. Включил. Подождал минуту, пока закипит. Снова засыпал в кружку и заварил. Вернулся в комнату. Отхлебнул из стакана холодного с бальзамом и стою. Что теперь?
— У тебя сегодня день рождения, — сказала Таня. — Как мне одеться?
Я не стал спорить. Пусть день рождения, если ей хочется.
— Надень белые штаны, короткие, с фиолетовыми полосками.
— Туфли?
— Обязательно.
— Косу распустить?
— Нет, не надо.
— А сверху что?
— Чёрную майку, рваную, чтобы грудь высовывалась.
— Давай всё же я распущу косу. Увидишь, как будет красиво.
— Нет, оставь пока. Потом распустишь. А чем ты будешь меня угощать?
— Водкой, селёдкой и варёной картошкой. И зелёным луком… Потом будем играть в гусарский преферанс. И если я проиграю — тогда ты меня угостишь.
— Сыграй мне туманно…
Прошуршала машина за окном. Свет фар скользнул по занавескам.
— Ты говоришь «пожар», — спохватился Серж. — А ты учитываешь при этом мой пожар в Сьяне, где я чуть не сгорел?
— Неужели? Когда?
— Не может быть, чтоб я не рассказывал… Четыре года назад… Точно не рассказывал? А ведь я по этому пожару тоже веду отсчёт четвёртой жизни, не только по дуэли и по руке… Пожар-то случился до операции — ещё рука была в лубке, забинтована. Хотя сбежались все сьянские соседи, но они не очень-то помогли. Я мог подтаскивать воду только левой (как и совершать все другие действия)… Пока они прибежали, я был весь в ожогах и чуть не задохнулся… В общем, всё выгорело, вся внутренность моего сарая-коттеджа, которую я с таким трудом строил. Остались одни стены каменные… И ещё — как я успел проснуться-то? — ведь я спал…
— Ты был с женщиной? С Клариссой?
— Да нет же! Я тебе говорил: Клариссы уже не было. Я натапливал до тридцати градусов и спал один… Правда, в тот вечер ко мне заехал Вианор. Мы выпили… И он — мне так показалось — старался меня напоить. А сам был какой-то нервный… Ты только не подумай, Пьер, что я на что-то намекаю.
— А что я должен думать, если ты так говоришь?
— Я уговаривал его заночевать, но он уехал. Сел за руль, несмотря на то что мы выпили вина три бутылки…
— О чём вы говорили, не помнишь? Может, про Тато? что рассказывал?
— Да уж наверное. Не сомневаюсь. Он всегда про неё говорит и всегда примерно одно и то же. Жалуется. Не может забыть, хотя сам её бросил. Ещё до тебя… А у тебя-то как с ней дела обстоят?
Всё это я начал излагать для того, чтобы объяснить продуктивность текущего ничегонеделания… точней сказать — продуктивность времени, позволяющего продуцировать это самое ничегонеделание.
Он через год там, типа, умер. А может, через полтора. Потом звонок — я обезумел, подумал: тоже мне пора.
Связь между проступком и наказанием очевидна. Помню, я ещё во время пляски обратил внимание на то, что наблюдаю почему-то за своей левой ногой: насколько высоко она задирается. И вот теперь я имею возможность и удовольствие часами смотреть на неё, задранную к самому потолку, — в такой позе врач велел мне лежать во избежание отёка…
На похороны Гоги я всё-таки ездил… Хотя утром 10-го температура достигала уже 39 с десятыми, но нога ещё не болела, я и предположить не мог, что это рожа, думал, что какой-то банальный грипп начинается… Но я был только в морге и на отпевании в церкви. Принёс цветы. Молча обнял мрачную, растерянную Николь. В крематорий, а уж тем более на поминки оттуда, я не мог ехать. Силы кончились. Поехал домой и сразу лёг на диван.

![Дерево бодхі. Повернення придурків [Романи] - Яценко Петро (книги онлайн полностью .txt) 📗](/uploads/posts/books/51649/51649.jpg)