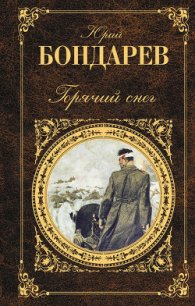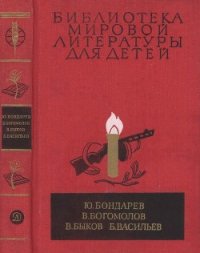Юность командиров - Бондарев Юрий Васильевич (лучшие книги онлайн TXT) 📗
За низким забором дворники обкалывали истаявший лед. Изредка, фырча, проезжала машина, разбрызгивая лужи на тротуары.
Училище было в центре города, далеко от госпиталя. Там, наверно, сейчас идут занятия, в классах — солнечная тишина…
— Больной Дмитриев, в палату-у! Ай оглох?
Тетя Глаша вышла на крыльцо и, словно бы из-под очков, с неприступной суровостью ощупала глазами всех поочередно.
— Опять, Петька! А ну застегнись. Ты что, никак на пляже? Или в предбаннике подштанники выставил?
И, подождав, пока спохватившийся Сизов, крякая и ухмыляясь, справился с пуговицами и поясом халата, Глафира Семеновна проговорила командным тоном:
— Однако, больной Дмитриев, марш в палату! Ужо насиделся на сырости!
И Алексей умоляющим голосом попросил:
— Еще минуточку, ведь совсем тепло, тетя Глаша…
— Сказано! — прицыкнула Глафира Семеновна, взяв его за руку, настойчиво потянула за собой в палату. — Вам распусти вожжи, кавалеристы, на голову сядете и погонять будете!
Всем известно было, что «кавалеристами» она называла капризных или своенравных больных, которые, по ее убеждению, готовы были враз сесть на голову, как только еле-еле поослабишь вожжи, и при ее последних словах пулеметчик Сизов прыснул:
— Верно! Нашего эскадрону прибыло, видать! — И, тотчас погасив это беспричинное веселье под пресекающим взглядом Глафиры Семеновны, сделав независимый вид, почесал за ухом увеличительным стеклом. — М-да. Народ пошел… хуже публики.
В палате Алексей лег с унылым лицом, все время поглядывая на Глафиру Семеновну просяще, но та в момент исполнения своих обязанностей была непроницаема: стряхнула градусник, без колебаний сунула ему под мышку и ушла, выказывая непоколебимость, закрыв за собой плотно дверь.
Алексей потянул с соседней тумбочки газету двухдневной давности, прочитал заголовки, затем устарелую сводку. Но даже по этой старой сводке весь мир кипел, сотрясался от событий: армия давно миновала Карпаты и Альпы, вошла в Болгарию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, продвигалась в глубь Германии. Да, там — тоже весна… Размытые, вязкие дороги, лужи, даль в сиреневой дымке, незнакомые деревни и солнце, весь день солнце над головой. Проносятся машины с мокрым брезентом: на перекрестках — «катюши» в чехлах, до башен заляпанные грязью танки. И, как всегда в долгом наступлении, идут солдаты по обочине дороги, вытянувшись цепочкой, подоткнув полы шинелей под ремень, идут, идут в туманную апрельскую даль этой чужой, теперь уже достигнутой через четыре года, притаившейся Германии… «Где сейчас батарея?»
Закрыв глаза, Алексей лежал, стараясь представить движение своей батареи по весенним полям. И вдруг из этого состояния его словно вытолкнули суматошные шаги в коридоре, как будто бегущий там перезвон шпор и чей-то возглас за дверью:
— Куда нам? Где он?
— Сапоги-то, сапоги, марш к сетке очищать! Грязищи-то со всего города притащили, кавалеристы?
В коридоре — топот ног, движение; потом, впустив в палату рыжий веселый косяк солнца, совершенно неожиданно возникла белокурая голова Гребнина; лицо его широко расплылось в неудержимой улыбке.
— Страдале-ец, привет! Вон ты где!..
— Сашка!
— Алешка, живой, бес! Неужто ты, не твоя копия!..
Дверь распахнулась, и, неузнаваемые в белых халатах, стремительно, шумно, звеня шпорами, ввалились в палату Саша Гребнин и Дроздов. А когда Алексей, вскочив с койки, кинулся к ним навстречу, оба одновременно протянули ему красные, обветренные руки, столкнулись, захохотали, и Гребнин тщетным криком попытался восстановить порядок, боком оттесняя Дроздова:
— Подожди, Толька, подожди! По алфавиту! Похудел! Ну, похудел! Ну как? Что? Ходишь?
— Погоди ты с сантиментами! — засмеялся Дроздов. — Не видишь, что ли?
Он так сжал руку Алексея, что у обоих хрустнули пальцы, обнял его рывком, притянул к себе, говоря с грубоватой нежностью:
— Здоров! Слона повалить на лопатки может, а ты: «Ходишь?» Вот не видел тебя никогда без формы.
— Не затирать разведку! — командно кричал Гребнин. — Восстановить алфавитный порядок. Я на Г, а ты на Д! Толька, отпусти Алешку, не то тресну по затылку!
— Вот черти, вот черти! Как я рад вас видеть, — повторял дрогнувшим голосом Алексей. — Не представляете, как я рад!..
У Гребнина и Дроздова из явно коротких рукавов наспех натянутых на гимнастерки халатов торчали красные ручищи, сапоги со шпорами были в грязи, от обоих так и веяло теплом улицы, весенним ветром; лица были крепки, веселы, обветренны, плечи так широки, что вся палата сразу показалась маленькой, а эти узенькие халаты не вязались со сдержанной силой, которая кричаще выпирала из них.
— Ну рассказывайте, рассказывайте, — взволнованно торопил Алексей. — Все рассказывайте, я же ничего не знаю! Как я рад видеть ваши рожи, черт возьми! Садитесь вот сюда на койку, вот сюда садитесь!..
— Во-первых, изменения, Алешка, — начал Дроздов, присаживаясь на край койки. — Предметов новых ввели — кучу. Немецкий язык, арттренаж, огневая. По артиллерии перешли к приборам…
— Хоть стой, хоть падай! — вставил Гребнин, пребедово подмигивая. — Понимаешь, мы с Мишей Луцем еще в четверг собрались к тебе. Приходим к помстаршине. Считает белье, бубнит под нос, не в духе: наволочки какой-то не хватает. Обратились по всей форме, а он, дьявол, не отпустил: обратились, мол, не по инстанции. Хотели на следующий… — тут Гребнин покосился на улыбнувшегося Дроздова, — а на следующий день нам с Мишей «обломилось» на неделю неувольнения. Формулировка: «За хорошую организованность шпаргалок во взводе». Короче говоря, хотели написать ответы на билеты по санделу вместе с Мишкой, даже использовать не сумели, как майор Градусов попутал… Оказывается, он перед зачетом слышал, как мы с Мишей договорились в ленкомнате. Представляешь номер? Сразу, конечно, вызвал Чернецова, построение всего взвода. «Курсанты Гребнин и Луц, выйти из строя! Так вы что же, голубчики…» И пошел раскатывать! Нотацию читал так, что Мишка от отупения дремать перед строем начал. Я говорю: «Товарищ майор, разрешите объяснить…» — «Не разрешаю!» Я говорю: «Товарищ майор, пострадали зря — шпаргалки и написать не успели». — «Что-о? За разговоры и оправдания — две недели неувольнения!»
— Сашка, неужто верно это? — смеясь, спросил Алексей.
— Легенда, — махнул рукой Дроздов.
— Да что там! Ребята свидетели. Ты хоть пушку на меня прямой наводкой наводи, не приврал. Это что! Понимаешь, такая еще штука случилась…
— Саша, стоп! Переходим к делу, — внезапно остановил его Дроздов и, разглядывая Алексея своими по-детски ясными глазами, проговорил неловко: — Алеша… Когда тебя думают выписывать? Это главный вопрос.
— Не знаю. По разговорам врачей — не очень скоро. Это дурацкое ранение открылось… Вы не представляете, как надоело мне лежать тут, хоть удирай!
— Ты должен, безусловно, бежать! — воскликнул Гребнин. — И мы тебе поможем. Ночью откроешь окна — и конец простыни будет у тебя. Ну, ты, конечно, привяжешь конец простыни за ножку кровати и…
— И… сначала Алешка, а потом и кровать, вытянутая его тяжестью, попеременно обрушатся на голову Сашке, который будет стоять под окном и держать под уздцы двух вороных коней, из-под копыт которых будут лететь снопы искр, — в тон ему договорил Дроздов и, отдернув рукав халата от своих трофейных часов, показал их Гребнину. — С твоим трепом ушло время. Увольнительная у нас на полчаса фактически — отпустили со строевой, Алеша…
— Эх, жаль, не досказал тебе одну историю! — сказал Гребнин сокрушенно. — Да ладно, в следующий раз. — Он вынул из кармана какую-то бумажку, грозно скомандовал: — Сидеть смирно! Слушай приказ дежурного по батарее. Привет от Бориса, от Зимина, Луца, Кима Карапетянца, Степанова, Полукарова и прочих, и прочих… список огромный, заплетается язык. Короче — от всей братии. Заочно жмут твою лапу, так и ведено передать! Особенно и категорически настаивал на привете помстаршина Куманьков. «Я, — заявил он, — завсегда почитаю геройство». Молчать! У меня здесь все записано. Топором не вырубишь! Жди три свистка под окном лунной ночью и открывай окно…