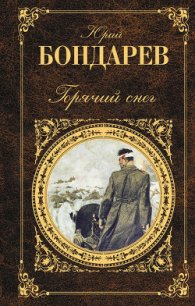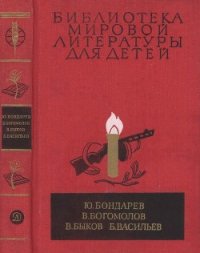Юность командиров - Бондарев Юрий Васильевич (лучшие книги онлайн TXT) 📗
— Что? — спросила она и остановилась. — Что вы хотите спросить?
— Не знаю, — без уверенности ответил он. — Только я сегодня устал, ну просто очень устал. И вдруг вспомнил, что вы живете в этом городе. И, знаете. Валя, подумал; это очень хорошо, что вы живете в этом городе…
— В этом городе вы больше никого не знаете, — сказала она и, отогнув воротник от губ, спросила: — Как вы нашли меня? И как узнали, что я работаю в госпитале?
— Это было легко.
Начал сеяться редкий нежный снежок. Валя на ходу поймала звездчатую снежинку, сказала:
— Какой мягкий мартовский снег! — И казалось, без всякой последовательности добавила: — Я ведь знаю, за что вы попали на гауптвахту.
Они остановились. Валя подняла глаза, осторожно сделала шаг к Алексею и, не говоря ни слова, смотрела ему в лицо, положив руку на его ремень.
Их разделял только падающий снег.
Он повторил, стараясь не двигаться:
— Валя, хорошо, что вы в этом городе…
Она отняла руку, подошла к крайнему крыльцу, слепила на перилах снежок, сказала весело:
— Он уже весной пахнет! Чувствуете? — И неожиданно спросила: — Попадете в тот фонарь? Вон, на углу, видите?
Она бросила снежок, смеясь, и этот смех почему-то напомнил ему знойный, горячий пляж, мягкий шелест волны, белые теневые зонтики на песке — то милое довоенное прошлое, что было полузабыто.
— Эх вы! Хотите, научу вас меткости? — шутливо предложил Алексей и тоже слепил снежок.
— Вы хвастун? Ну-ка, покажите свои способности! Вы, конечно же, снайпер, согласна!..
— Ну хорошо, смотрите!
Он размахнулся — и снежок не влип в столб фонаря, а пролетел мимо. Но от сильного размаха Алексея кольнула резкая боль в груди, там, где все время болело после тактических занятий, и сейчас же солоноватый вкус появился во рту.
— Валя, подождите, — проговорил он, отошел в сторону и сплюнул. И тотчас ясно увидел красное пятно на снегу.
— Что это? — изумленно спросила она. — У вас кровь? Вам что, зуб выдернули? Надо холодное на щеку. Прижмите к щеке снег!
Он стоял не отвечая, глаза были зажмурены, потом ответил странно:
— Да, кажется… зуб.
И вынул платок, приложил его к губам.
— Помешало, — договорил он с досадой и насильно улыбнулся ей. — До свидания. Валя… Мне пора…
— Что, сильно болит? — опять неспокойно спросила она. — Идите в училище. Я вас провожу. Идемте же, идемте!
Через четверть часа они расстались.
…Кто-то сказал рядом, будто возле самого его лица:
— Немедленно врача из санчасти.
И от этого голоса Алексей очнулся: таким знакомым показался ему этот голос, таким много раз слышанным, что он вдруг почувствовал жгучую радость: почему, почему здесь комбат Бирюков? И даже в тот момент, когда неприятно-яркий, режущий свет электричества до слез больно ударил по глазам, заставив его прижмуриться, он хотел еще громко спросить: «Товарищ комбат, как вы здесь?» — но не услышал своего голоса. Он только смутно увидел капитана Мельниченко, за ним лейтенанта Чернецова, бледное лицо Бориса, и дошел до сознания зыбкий затухающий шепот командира взвода:
— Вы… тихонько лежите, Дмитриев.
У Бориса разжались губы:
— Алеша… что ты?
В батарее — тишина, окна чернели: наверно, глубокая ночь. Мельниченко присел на кровать, спросил сниженным голосом:
— Как, сильно знобит?
— Немного, товарищ капитан… — прошептал Алексей.
— А я вот сейчас проверю, — сказал капитан и потрогал его пульс прохладными пальцами; синие глаза, застыв, смотрели куда-то в сторону.
И тут до пронзительности ясно вспомнил Алексей буранную ночь в котловине, тактические занятия, себя, бегущего без шинели, холм, шоссе. Потом была Валя, тени снежинок на ее лице, красное пятно на снегу. Его стало давить удушье, оно плотно и вязко подступало оттуда, из ноющей боли в груди — и снова появился тошнотно-солоноватый вкус во рту.
— Отойдите, товарищ капитан, — лишь успел сказать Алексей, склонившись с кровати.
У него пошла кровь горлом.
В одиннадцатом часу ночи Алексея отвезли в гарнизонный госпиталь: у него открылось пулевое ранение в правом легком.
В комнате дремотно пощелкивало отопление. Валя села перед зеркалом и, устало расстегивая платье, увидела в глубине зеркала — выглядывало из приоткрытой двери в другую комнату спрашивающее лицо тети Глаши, подумала: «Не терпится поговорить», и сказала тихонько:
— Конечно, входите. Вася у себя?
— Не приходил он. В училище своем ночует, что ли!
Они работали в одном госпитале: тетя Глаша — сиделкой, Валя — сестрой, не закончив первого курса медицинского института в начале 1944 года; и хотя тетя Глаша усиленно возражала против ее решения бросить институт («Вытяну и одна»), она на это ответила, что «будем тянуть вместе», — и ушла после зимней сессии.
— Засыпаешь от дежурства-то? — заметила тетя Глаша. — Бледная ты, ровно заболела. Что так?
А Валя посмотрела на окно, пусто высвеченное мартовской луной, и задумалась; вздохнула, молча пошла к постели; тетя Глаша тоже вздохнула ей вслед.
— Эк и разговаривать не хочешь.
Валя опустилась на край постели, сложила руки на коленях.
— Тетя Глаша, поверьте, язык не шевелится…
— Ладно, ладно, золотко мое, — пробормотала тетя Глаша и погладила ее светлые волосы. — Вся ты в мать. А вот смотрю на тебя и думаю: и нет такого молодца, как в песне-то: «Некому березу заломати».
Валя не ответила; тетя Глаша потопталась и вышла, шаркая шлепанцами.
Тогда Валя потушила свет, бултыхнулась в холодную постель, укрылась одеялом до подбородка. Комната будто погрузилась в теплую фиолетовую воду, сине мерцали мерзлые окна, на полу пролегли лунные косяки; тикали тоненько и нежно часы на тумбочке. Валя лежала, положив руку поверх одеяла, глядя на легкую полосу лунного света на стене.
В тишине квартиры резко затрещал телефонный звонок, но ей не хотелось вставать — пригрелась в постели. Из другой комнаты послышались скрип пружин, покряхтывание тети Глаши: «Кого это надирает ночью», — по коридору зашаркали шлепанцы в комнату брата и назад, под дверью вспыхнула щель света.
— Валюша, спишь? Какой-то Борис тебя спрашивает. Другого времени не нашел.
— Борис? Не понимаю. Сейчас, тетя Глаша.
Валя сунула ноги в тапочки, побежала в комнату брата, схватила трубку, сказала, слегка задохнувшись:
— Да, да…
— Валя, извините, кажется, разбудил вас? Собственно, извиняться потом будем. Дело в том, что Алексей…
— Да кто это говорит?
— Борис. Друг Алексея. Помните Новый год? Так вот, час назад Алексея отправили в госпиталь. У него кровь пошла горлом. Открылось ранение… Это я должен был сообщить вам.
— Час назад?
Она положила трубку, откинув голову, прислонилась затылком к стене. Из другой комнаты спросил ворчливый голос тети Глаши:
— Что там еще за ночные звонки? Что за мода?
— Ничего, тетя Глаша, ничего, мне надо в госпиталь…
— Господи, куда ты? Двенадцатый час.
…Белыми огнями ярко светились в углу окна аптеки, легкий снежок мягко роился вокруг фонарей. Возле ворот кто-то, широко расставив руки, загородил Вале дорогу, проговорил умиленно и пьяно:
— Какие реснички, а?
— Подите к черту!
На третьи сутки ему сделали операцию.
Операцию делал человек с недовольным прокуренным голосом, он ругался во время операции на сестер, ворчал, брюзжал, негодовал, со звоном бросал инструменты, и Алексею мучительно хотелось посмотреть на него. Но на глазах была марлевая повязка, сестры крепко держали его за руки, и он не мог этого сделать. Он лежал, обливаясь холодным потом, кусая губы, чтобы не стонать, ожидая только одного: когда кончится эта хрустящая живая боль, когда перестанут трогать его руками и тошнотворно звенеть инструментами. Временами ему казалось, что он теряет сознание, плавно колыхаясь, погружается в теплую звенящую влагу. Тугой звон наливал голову, и только где-то высоко над ним навязчиво гудел этот прокуренный голос: