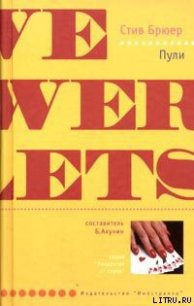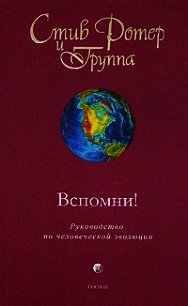Явилось в полночь море - Эриксон Стив (читать книги без .txt) 📗
Несколько лет спустя, женившись на Энджи, в тот день, когда мы переехали в дом в Голливуд-Хиллз, я наткнулся на коробку с письмами. Перебирая их, я нашел пустой конверт; адрес был написан женским почерком, который я тут же узнал, хотя и не видел его с одиннадцатилетнего возраста. Я все хлопал глазами, глядя на конверт, будто что-то у меня в голове должно было щелкнуть и все объяснить. Я не помнил, как получал это письмо. Хотя конверт был сверху разорван, я не помнил, что читал его. В панике я обыскал коробку, понимая, что письмо, должно быть, выпало, но его там не было. Я обыскал другие коробки и долго стоял среди пустой квартиры, зная, что письмо где-то здесь, ускользнуло в какую-нибудь щель, и что если я сейчас уйду, то уже никогда не найду его.
В конце концов мне, конечно, пришлось уйти. Остался пустой конверт с выцветшей и потемневшей маркой, дата стерлась навсегда, а пунктом отправления значился крохотный французский городок, о котором я никогда не слышал, – Сюр-ле-Бато, согласно атласу, примерно в двенадцати километрах от побережья Бретани.
Ах, прошу прощения. Неужели я говорил слишком громко? Повысил голос? Взял неподобающий тон? Вышел за рамки той роли в жизни, которую мне назначил хаос, когда обязал говорить лишь шепотом? Я бы так и жил, тише воды, ниже травы, если бы не выловил Дженнину книжку, томик Горького, из канавы на Сентрал-Парк-Вест в тот весенний день… Какого? 1975 года? Мне было девятнадцать. Восемнадцать. Даже не помню, что я делал в городе, но я был там, и когда она выронила эту книжку, а я поднял, Дженна одарила меня самой лучезарной улыбкой, какая мне от нее доставалась. Дженна была записной сталинисткой – это была экзотическая и нелепая птица даже для того зоопарка, каким можно считать семидесятые… Теперь, конечно, когда я вообще о ней думаю, а такое случается нечасто, я понимаю (диалектический материализм есть диалектический материализм), что Дженна никогда бы мне не отдалась, мои шансы в этом отношении равнялись нулю. Но я не знал этого. Я был исторически наивен, как она бы первая сказала вам, мне или кому-либо еще.
Она только что вернулась с учебы по обмену в Мадриде, откуда путем каких-то махинаций, слишком таинственных, чтобы разглашать их неисправимо буржуазному американскому юноше – сыну поэта, не меньше: представителю богемы, — ездила на две недели в Москву в рамках какой-то программы «по укреплению дружбы», и это навсегда открыло ей глаза… Ладно, в общем, той весной в Нью-Йорке я немножко приклеился к Дженне. Провожал ее на тайные совещания и секретные встречи с тем или иным товарищем, на явку к тому или иному функционеру, где она проводила ночь, пока я стоял на тротуаре, меряя взглядом фасад и гадая, за каким она сейчас окном…
Преследователь – это просто особенно преданный романтик, верно? На следующее утро я все еще дожидался ее, прикорнув у дерева. В каком-то смысле Дженна вернула мне голос, через семь лет после того, как его заглушила революция анархического толка, которую дисциплинированные сталинисты презирали. Дженна вернула мне голос, хотя и в форме шепота и бормотания. Я просиживал ночи, переписывая для нее ее речи. То ли язык ее убеждений не воздавал должного самим убеждениям, то ли и вовсе ускользал от нее… Я не верил ни единому слову. Я не верил ни слову из того, что писал и что говорил. Я не верил ни слову из того, что шептал и сипел. Я верил в то, как хочу ее, а когда осознал, что хочу ее так, что готов просипеть ради нее почти любой бред, то понял, что пора сматываться, и оставалось лишь надеяться, что мой голос не покинет меня, а отправится вместе со мной.
Сматываться обратно в Европу, а куда еще. В Амстердам, где я поселился в квартале красных фонарей над булочной, перестроенной под ночной клуб, где стелилась привычная дымка гашиша и имелась собственная певичка, которая каждую ночь пела нагишом, а между грудей ее была намалевана линия пунктиром, как разметка на шоссе. Через месяц я получил от Дженны открытку, где между делом сообщалось, что через две недели она будет в Мадриде. Моей первой инстинктивной мыслью, мелькнувшей так быстро, что я еле ее отметил, было – не ездить туда вообще. Следующей же – немедленно выписаться из гостиницы и бежать на вокзал, где я купил билет на ближайший поезд. Почему-то я предположил, что жизнь потеплеет по мере моего приближения к югу… Меня немного удивило, что чем ближе я подъезжал к Испании, тем холодней становилось в поезде, и когда среди ночи я пересек границу, меня охватила такая лихорадка, что было уже не до Дженны. В купе второго класса кроме меня ехал один испанский бизнесмен, который, судя по его виду, должен был бы ехать в купе получше, и за всю поездку мы не обменялись и парой слов, пока не пересекли границу с Испанией, где испанские солдаты проверили мою сумку и нашли сверток старых статей и фотографий из газет. В частности, журнальную обложку за май 1968 года, где на парижской улице картинно взрывался автомобиль. «Вы революционер?» – очень спокойно поинтересовался пограничник. Уже снова сев в поезд, я спросил бизнесмена, что происходит: тут всегда так – пограничники, солдаты? – но он ничего не сказал, а только взглянул на меня и опять уткнулся в газету – все ту же, что читал в течение последних двенадцати часов, – а потом, не поднимая глаз от газеты, словно не обращаясь ни к кому, ответил: «Генерал умирает».
Генерал все умирал и умирал, без конца умирал, дни и ночи, недели и месяцы, и когда я приехал в Мадрид, повсюду были полицейские, ружья и законы военного времени, а все остальное спряталось за закрытыми окнами и запертыми дверями. На улицах никого не было, никого не было в барах, tascas [33] и кафе, даже знаменитые городские фонтаны словно замерзли. Так что Дженна приехала именно в такой Мадрид вовсе не случайно, а наверняка по приказу какого-нибудь шепелявого аппаратчика, дабы подготовить и засвидетельствовать восстановление Испании, выскользнувшей из рук ее товарищей тридцать шесть лет назад. То, что это ее же сталинисты и всадили нож в спину Республики, когда над головой летали гитлеровские «Штуки», было одной из тех самых исторических неувязок, из-за которых история время от времени осознанно и полностью переписывалась. В Мадриде Дженна оказалась в своей стихии. «Анархисты, – учила она меня, – это просто вывернувшиеся наизнанку буржуи», – но насколько я мог судить, в анархическом воздухе Испании она расцвела. Во всяком случае, он заставил ее рдеть чувственным сиянием, ее красные губы стали пышнее и слаще от паранойи.
В Амстердаме я отпустил бороду… Дженна была не в восторге. Борода не показалось ей радикальным или угрожающим атрибутом на манер восхитительных кубинцев, а просто недисциплинированной прихотью на манер отвратительных хиппи, отбросов капитализма, – сойдя с самолета, первым делом она сказала: «Зачем ты отрастил эту жуткую бороду?» Она была в лихо надетом набекрень беретике, украшенном красной пятиконечной звездочкой, и ее большие карие глаза, ее влажные губы, блестевшие наравне с золотыми сережками, выглядывающими из-под рыжеватых волос, ее тело – все это заставляло меня содрогаться в дичайших, бессмысленнейших внутренних переворотах, опровергая всю «научность» ее идеологических установок. На родине, в Штатах, Партии редко попадались такие роскошные рекруты. В действительности на родине в последние годы Партии вообще редко попадался кто-нибудь младше семидесяти, так что коммунисты специально готовили ее с тем расчетом, чтобы привлечь в свои ряды новых рекрутов, особенно молодых людей, хотя любой, кто не ленился поразмыслить, находил очевидное врожденное противоречие в такой рекламе: «Товарищи! Вступайте в ряды! Вот с какой сладкой девочкой вам довелось бы спать при социализме, если бы социализм так же прогнил, пришел в упадок и развратился, как капитализм!» Впрочем, если он так же прогнил, пришел в упадок и развратился, как капитализм, Партия могла позволить себе расщедриться с телом Дженны, поскольку та уже отдала ей свое сердце – орган более мягкий, сентиментальный и податливый, с меньшим функциональным значением, чем плечи, спина, руки или ноги, но определенно более нужный, чем мозг, который, если начинает действовать самостоятельно, может доставить хлопоты. С Дженной, однако, таких проблем не было. Партия не могла желать большей уступчивости – Дженна делала все необходимые диалектические кульбиты с предельной ловкостью, даже с апломбом: ГУЛАГ – миф, репрессии – обман, вторжение в другие страны – дело, касающееся только товарищей, а не Запада, нацистско-советский пакт 1939 года – беспочвенная выдумка буржуазной прессы.
33
Закусочных (исп. ).